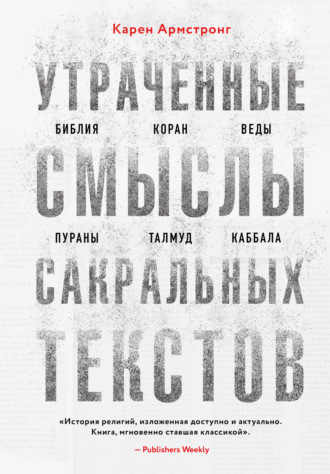
Карен Армстронг
Утраченные смыслы сакральных текстов. Библия, Коран, Веды, Пураны, Талмуд, Каббала
Уддалака в «Чхандогья Упанишада» предлагает иной подход. Инициируя своего сына, он приказал ему поститься пятнадцать дней, пока Шветакету не ослабел так, что не смог прочесть ведические тексты, которые прекрасно знал наизусть. Так Шветакету постиг, что атман есть единство физического и духовного и что его сознание состоит из «пищи, дыхания, воды, речи и зубов»[459]. Затем Уддалака показал ему, что сущность любого предмета неотделима от материала, из которого он состоит, будь то глина, медь или железо. То же верно и для всего существующего, ибо Брахман есть истинное «я» каждого творения. «Тончайшая сущность – То — составляет «я» всего мира, – снова и снова объяснял Уддалака. – То есть истина; То есть атман; и ты – тоже То, Шветакету»[460]. Эти фразы проходят рефреном через всю Упанишаду, подчеркивая, что Шветакету, как и все и вся вокруг, есть Брахман – «Все». Брахман есть сокровенная суть баньянового семени, из которого вырастает огромное дерево, хотя крохотное семечко едва видно глазу; таков же и атман любого человека.
Дисциплина Упанишад помогала ученикам осознать, что все создания объединены единой священной сутью, все взаимосвязаны на глубинном уровне. Вот почему ключевой для них стала практика ненасилия. Но большинство людей, объясняет Уддалака Шветакету, слепы к этой реальности. Они считают себя уникальными и цепляются за частности, делающие их столь интересными и драгоценными. Но все эти качества, продолжает Уддалака, имеют не больше значения, чем реки, впадающие в море. Там они сливаются, делаются единым океаном, и ни одна волна не кричит: «Я – такая-то река!» или: «Я – сякая-то река!» Так и все мы, кто бы мы ни были – тигры, волки, люди или мошки, – вливаемся в То, ибо То — это единственное, чем все мы можем быть. Нам нужно самоумалиться, отказаться от своего «я», ибо это воображаемое «я», за которое мы так отчаянно цепляемся – заблуждение, способное привести лишь к смятению и боли; а избавиться от них мы можем, лишь приняв глубинное освобождающее «знание» о том, что Брахман есть наш атман, и это глубочайшая истина о нас[461].
Самый обычный метод обучения этому знанию, однако, состоял в том, чтобы повторять слова писания, как мантры. Упанишады почти не пытаются истолковывать эти священные слова: ведь объяснением слов не достигнешь освобождающего прозрения. Скорее суть в том, что монотонность этого упражнения прекращает всякую аналитическую деятельность, а физическая практика пения и управление дыханием вводят ученика в измененное состояние сознания[462]. Четыре великие мантры подытоживают все учение Упанишад: «Кто знает, что “Я есть Брахман” [ахам Брахмасми], становится этим Всем»[463]; «Тат твам Аси» [ты есть То]; «Айам атма Брахман» [Это Я есть Брахман][464]; и «Праджнянам Брахман» [Мудрость есть Брахман][465]. Ученик ощущал, как эти звуки отдаются в его теле, как утверждение мантры физически становится одним целым с ним, присутствует в его дыхании, речи, слухе, зрении и сознании. Осознавая все эти «связи» (бандхус), он ощущал, что Брахман делает его божественным, бессмертным и свободным от страха. Священное – больше не далекая мечта; абсолют стал имманентным:
Он огромен, как небо, непостижимых очертаний,
И все же кажется меньше самого малого;
Он дальше самого далекого,
И все же здесь, рядом с тобой;
Он здесь, с теми, кто видит,
Сокрытый в пещере их сердца[466].
В поисках божественного риши больше не смотрели во внешний мир; они обратили взор внутрь себя, «ибо в реальности каждый из этих богов есть свое собственное творение, и каждый – все эти боги»[467].
5. Эмпатия
В 453 г. до н. э. в китайском княжестве Чжин три семейства отделились от своего князя и создали на территории Чжин три новых, отколовшихся государства: Хань, Вэй и Чжао. Так началась долгая и страшная эпоха, известная в Китае как период Сражающихся царств. Мощные княжества по краям Великой Равнины – Чу на юге, Цинь на западе, Ци на севере – и новые «трое Чжин» сражались друг с другом в отчаянной борьбе за гегемонию. В этом процессе погибало одно государство за другим. Но это был и период творчества: ужас войн, ведущихся теперь со смертоносной эффективностью и с затратой обильных ресурсов, интенсифицировал поиски нового религиозного видения. Были созданы важные новые тексты, и некоторые из них стали впоследствии прославленными писаниями.
Как мы уже знаем, правителям окраинных «сражающихся царств» было не до самоограничения, умеренности и сложных ритуалов. Князь Вэнь (446–395 гг. до н. э.), правитель нового царства Вэй, покровительствовал учению и поддерживал школу эрудитов, дававших ему советы по вопросам протокола: одним из его протеже был Цзы-Ся, ученик Конфуция. Но другим «воюющим» правителям конфуцианство казалось смехотворно идеалистичным: они обращались за советами к новым военным теоретикам (сэ), что бродили по стране и готовы были за пристойное жалованье служить кому угодно. Тысячи крестьян записывали в кавалерию, которая теперь несла на себе основные тяготы сражений. В прежние времена ритуализованных войн убийство стариков, женщин и детей считалось бесчестьем – теперь же массовые потери среди гражданских стали обычным явлением.
Однако в начале IV в. до н. э. один из странствующих сэ вдруг перешел к проповеди радикального ненасилия. Его называли Мо-цзы, «учитель Мо» (ок. 480–390 гг. до н. э.)[468]. Мы знаем о нем очень мало. По-видимому, он был лидером братства учеников, состоявшего из 180 мужчин, которые вмешивались в военные кампании и защищали наиболее уязвимые города. В самом деле, девять глав своей книги Мо посвятил стратегии обороны и созданию оснащения для защиты городских стен. Как и «Изречения», «Мо-цзы» – составное произведение, которое развивалось и дополнялось со временем: разделы о логике и о военной науке, по-видимому, добавлены туда позднее[469]. Эта книга не стала классическим текстом, однако в период «Враждующих государств» моизм и конфуцианство были самыми заметными из философских школ, держащихся в стороне от государства и предупреждающих, что мир движется к катастрофе. «Мо-цзы» показывает так же, что идеалы эмпатии и сострадания были свойственны не только образованным конфуцианцам; их же, пусть и с другими акцентами, проповедовали их самые строгие критики – сэ.
В ключевых главах своей книги Мо-цзы предпринял последовательную атаку на конфуцианцев, «эрудитов» или жу; ему было не до Князя Чжоу, его безмерно раздражали сложные ритуалы знати, особенно роскошные похороны и трехлетний траур. Такое могут позволить себе аристократы, но работающего человека это просто разорит, а если все начнут следовать этим нелепым обычаям, полетит в пропасть экономика и ослабеет государство[470]. Впрочем, Мо-цзы одобрял Мудрых Царей, которые, по его мнению, подобными глупостями не занимались. Его любимцем был Ю, протеже Шуня, практичный человек, трудившийся день и ночь и разработавший технологию предотвращения наводнений. В поддержку своего презрения к дорогим погребальным ритуалам Мо-цзы приводил и древний текст, посвященный Яо. Когда Яо умер, тело его завернули в три грубых полотнища и уложили в самый простой гроб, и никто не выл над его могилой[471]. Поддержку себе Мо-цзы находит и в писаниях Чжоу, цитируя одно из «Песнопений», где говорится, что Небо одобряет простоту жизни императора Вэня:
Хоть и обновленный, ты не делаешь из себя зрелища,
Хоть ты и вождь своей страны – не меняешься[472].
Мо-цзы, однако, предпочитал именовать Небо «Богом». Аристократия тщательно культивировала безличное представление о божественном, но Мо-цзы, возможно, ориентировался здесь на идеи минь, «малых сих», которые поклонялись Небу как личному божеству. Более того, он настаивал, что и писания Чжоу с ним согласны. Разве не сказано в «Песнопениях»: «Император Вэнь восходит и нисходит слева и справа от Бога»?[473]
Среди ученых эпохи Сражающихся царств Мо-цзы выделяется своим восторженным отношением к письменному слову: он очень решительно настаивал, что «Песнопения» с самого начала существовали на письме[474]:
Таковые деяния записывались на бамбуке и шелке, гравировались на металле и камне, надписывались на сосудах и чашах, и так передавались потомству в будущие поколения. Зачем это делалось? Делалось это для того, чтобы люди ведали, как эти правители любили ближних и благотворили им, как повиновались воле Неба и как получили за это от Неба награду[475].
Поскольку Мудрые Цари записали эти тексты и сохранили их для потомства, у Мо-цзы и его поколения появилась возможность опровергнуть лжеучения жу. В особенности возмущала его чрезмерная сосредоточенность конфуцианства на семейном и сыновнем долге: в этом клановом духе, считал он, причина многих общественных бед. Вместо всего этого Мо-цзы проповедовал чжян-ай: это понятие часто переводят как «любовь ко всем», но, быть может, для прагматичного Мо-цзы это звучит чересчур эмоционально[476]. Более точный перевод этого выражения – «забота обо всех». «На других смотри так же, как на самого себя», – настаивал Мо-цзы; доброжелательность и эмпатию не следует ограничивать семьей и друзьями – они должны «быть всеобъемлющими и не исключать никого»[477]. Китайцы прекратят уничтожать друг друга, только если начнут старательно воспитывать в себе чжян-ай: «Если люди начнут смотреть на чужие государства так же, как на свое собственное, кто тогда поднимет свою страну на войну с чужой страной? Это будет все равно что напасть на свои собственные владения». Так что, заключал Мо-цзы, «приверженность своему следует заменить заботой обо всем»[478].
Здесь перед нами еще одна попытка преодолеть присущее человеку племенное мышление и заменить его более универсальным взглядом на мир. В поддержку своего учения Мо-цзы цитирует ныне утраченный раздел «Документов»: «Император Вэнь, подобно солнцу и луне, изливал свет свой на все четыре стороны света и на западные земли». Итак, комментирует Мо-цзы, его благоволение «светило всему миру, без пристрастия»[479]. Также он цитировал «Песнопения»: «Широк, широк путь Императора, и нет в нем пристрастия»[480]. «Песнопения» и «Документы», известные Мо-цзы, отличаются от дошедших до нас версий, поскольку в войнах и смутах эпохи Сражающихся царств многие тексты были утрачены. Но мы видим, что в те годы китайцы использовали эти тексты, которым было уже не менее пятисот лет, как писание: ссылались на них, чтобы осветить и понять проблемы современности, искали в них свои высочайшие надежды и идеалы.
Несмотря на трагическое насилие, свойственное той эпохе, Китай переживал поразительное экономическое и политическое преображение. В IV столетии до н. э. китайцы научились ковать железо и с помощью новых железных орудий очистили от лесов значительные территории: в результате выросли урожаи, а следом начался стремительный рост населения. Новое сословие купцов, тесно сотрудничавших с правителями, строило фабрики, шахты, основывало крупные торговые дома. Города больше не были закрытыми анклавами: они превратились в многолюдные центры торговли и промышленности[481]. Многих эти перемены радовали, но некоторых и тревожили. Политики все чаще задумывались о сухом прагматизме новой купеческой этики. «Ритуалы» настаивали, что император должен, подобно Яо, полагаться на добродетель (дэ) своего служения и «делать ничто» (у вэй). Но новые правители энергично вели свою политику, а властелин царства Вэй заменил наследственную аристократию на чиновников, получавших жалованье. Министров, плохо исполнявших свои обязанности, без церемоний казнили или отправляли в ссылку.
Такие перемены неизбежно вели к социальному взрыву. Набор крестьян в армию, а также присвоение правителями земель, где крестьяне традиционно охотились, ловили рыбу или рубили дрова, подрывали сельскую экономику. Многим сельским жителям приходилось искать новую работу на фабриках или шахтах. Некоторые аристократические семьи, замененные чиновниками на жалованье, утратили влияние, захирели и пришли в упадок. Под напором перемен одни просто бежали из городов, другие искали ответы на новые вопросы. Примерно в это же время в Средиземноморье Афины создали демократию как противоядие от авторитарного правления; но в Китае антиавторитарный импульс выражался в форме полного отказа от политики. Некоторые философы, убежденные, что единственный выход – вовсе отказаться от правительства, просто уходили из городов и скрывались в лесах[482]. Эти отшельники знаменовали собой первую фазу развития философии даосизма.
Героем для них стал Шэнь-нун, один из мифических Мудрых Царей, в начале времен предшествовавший Яо и Шуню: он был изобретателем сельского хозяйства[483]. Даосы рассказывали: вместо того чтобы централизовать свою империю, Шэнь-нун позволил каждому владению остаться независимым, а вместо того, чтобы запугивать и эксплуатировать народ, правил «недеянием» (у вэй). Даосы верили, что, подвергая свою жизнь опасности, мы оскорбляем Небо, которое каждому отмерило определенный срок, так что теперь, когда общественная жизнь сделалась столь опасной, не следует искать себе политической карьеры. В позднейших разделах «Изречений», созданных, видимо, во второй половине IV в. до н. э., мы видим, как Конфуций спорит с отшельниками, так называемыми «отвергшими мир» (инь-чже), которые насмехаются над ним за «стремление к недостижимой цели» – попытки спасти общество[484]. Эти анахореты создали философию, оправдывающую их отшельничество: древнейшим из них был Ян-цзы (учитель Ян). Даты его жизни неточны, и текстов он после себя не оставил, но в более поздних трудах встречаются фрагменты его учения. Великий конфуцианский философ Мэн-цзы (361–288 гг. до н. э.) подытоживал философию Ян-цзы как: «Каждый человек – для самого себя»[485] и отвергал ее как чистый эгоизм, утверждая, что Ян-цзы говорил: «Даже если можно облагодетельствовать Империю, выдернув у себя всего один волос – не делай этого»[486]. Но это почти наверняка искажение слов Ян-цзы. Возможно, он имел в виду, что все наслаждения империи не стоят и одного волоска с твоей головы. Другие передавали, что Ян-цзы «ценил человеческое Я» или «презирал вещи и ценил жизнь». Жизнь была для него так драгоценна, что все богатства мира не могли с ней сравниться; он считал, что сохранять ее – священный долг[487]. Подобные же чувства высказывали и поздние даосы[488]. От последователей Яна легко отмахнуться как от своего рода безответственных хиппи, однако современников они явно беспокоили. Более того, даже их критики отмечали, что, хотя Сражающиеся царства и развивали мощные политические идеологии, их решимость заставить людей подчиняться неестественным нормам выглядела столь же нереалистичной. Возможно, последователи Яна стремились к более глубокому пониманию пределов деспотизма и тоталитарного правления[489].
Учение Яна оживленно обсуждалось в Академии Цзи-ся, созданной правителями Ци. Конфуцианцев это новое движение очень беспокоило. Если Ян-цзы прав, то Мудрые Цари, терпевшие труды и стеснения ради блага народа – просто глупцы. И как будет развиваться мир, если каждый станет заботиться только о себе? Что, если конфуцианский идеал самовоспитания в самом деле противоречит природе? Двое ученых из академии пришли к радикально различным выводам. Одним из них был Шэнь Дао (ок. 350–270 гг. до н. э.), основатель школы, известной как «легизм», которая рассматривала новые институты, сложившиеся в эпоху Сражающихся царств, как проявления Пути Неба, которым не должны мешать простые смертные: правителю необходимо практиковать у вэй и воздерживаться от любого личного вмешательства в правительственные дела, способного нарушить механическую работу системы. Легистские идеи уже воплотил в государстве Цинь Повелитель Шан (ум. в 338 г. до н. э.), которому не было дела ни до Мудрых Царей, ни до сострадания. Единственной его целью было обогащение государства и укрепление его военной мощи[490]. Нравственность правителя не имела никакого отношения к делу – более того, Шан считал, что из добродетельного мудреца хорошего царя не выйдет. Легизм сделал Цинь самым мощным государством Китая и впоследствии стал господствующей идеологией возрожденной Китайской империи.
Но Мэн-цзы, также преподававший в академии, был убежден, что конфуцианство – единственный путь вперед. Книга его вошла в канон и стала одним из важнейших классических текстов[491]. Как и Конфуций, он не сумел оказать влияние ни на кого из современных ему правителей, однако имел почти мессианскую убежденность в важности своей миссии. Он утверждал, что истинный царь рождается каждые пятьсот лет, однако прошло уже почти семьсот лет с тех пор, как Чжоу основали свою династию: «Никогда еще явление истинного царя не задерживалось так, как сегодня, – сокрушался он, – и никогда люди не страдали от более тиранической власти». Однако Мэн-цзы был убежден, что, если какой-нибудь правитель установит наконец доброе правление, «люди возрадуются так, словно их освободили от повешения вниз головой», и толпой ринутся в его государство. Свою мысль он подтверждал цитатой из Конфуция: «Влияние добродетели распространяется быстрее, чем приказ, передаваемый через почтовые станции»[492].
Как и Конфуций, Мэн-цзы не был автором собственной книги: это также антология, составленная его последователями с целью сохранить дискуссии Мэн-цзы с учениками, правителями и оппонентами. Однако, в отличие от чеканных изречений Конфуция, Мэн-цзы подробно развивает и аргументирует свои мысли. Как и Мо-цзы, он цитирует «Документы» и «Песнопения», чтобы подтвердить свои идеи авторитетом писания, но включает в число этих авторитетов и Конфуция. Конфуцианство в то время не было ни мощным, ни популярным, ни даже единым движением – имелось около восьми «конфуцианских» школ, совершенно не совпадающих по взглядам[493] – но Мэн-цзы смотрел на его потенциал с огромным оптимизмом. Со времен Конфуция мир изменился, так что Мэн-цзы не цеплялся рабски за идеи своего учителя, а довольно радикально приспосабливал их к современности. Там, где Конфуций проповедовал широкое, мистическое понимание жэнь, Мэн-цзы сужал его значение до «доброжелательности»; там, где Конфуций надеялся возродить идеалы Мудрых Царей, Мэн-цзы просто желал политической и экономической реформы.
В эти времена технического прогресса вместо того, чтобы, как Конфуций, восхвалять Яо и Шуня за приверженность ритуалам, Мэн-цзы почитал их как практиков и людей действия. Однако, подчеркивал он, в отличие от безжалостных царей нашего времени, ими двигало сострадание: чувства других людей они ощущали, как свои. Когда Великую Равнину опустошило страшное наводнение, Яо «встревожился», и это беспокойство подвигло его не к у вэй, а к применению новой технологии[494]. Он прорыл каналы, чтобы вода ушла в море, и земля снова стала обитаемой. Ю, первый министр Шуня, восемь лет углублял русла рек и строил новые плотины – и за все эти годы, хоть и успел жениться, ни разу не ночевал под собственной крышей[495]. Для Мэн-цзы первым признаком мудрости Яо, Шуня и Ю была сочувственная забота о народе. Каждый из них обладал «сердцем, чувствительным к чужой боли… и это проявлялось в сострадательном правлении». Ими двигала жэнь, которую Мэн-цзы определял как «распространение своего внимания на других»[496]. Человек, обладающий жэнь, действует не только в своих интересах: он постоянно обращает внимание на нужды и права ближних и заботится о них.
Сострадание, верил Мэн-цзы – естественный порыв, глубоко укорененный в человеческой природе. Все без исключения обладают четырьмя основными «импульсами» (туан), такими же неотъемлемыми от нашей природы, как две руки и две ноги – и при надлежащем воспитании эти импульсы естественно превращаются в четыре главные добродетели: доброжелательность (жэнь), справедливость, вежливость и способность отличать дурное от доброго. Если человек видит, что ребенок играет на краю колодца и вот-вот упадет – он инстинктивно бросится вперед, чтобы его спасти. Тому, кто будет равнодушно смотреть, как ребенок падает в колодец и погибает, определенно чего-то недостает. Таким же образом, и тот, кто лишен стыда или совсем не ощущает разницы между добром и злом – человек неполноценный. Можно подавлять эти «импульсы» – так же, как можно себя изуродовать или искалечить – но, если дать им свободу и направить на верный путь, они приобретают собственную силу, «подобно разгорающемуся пламени или бьющему роднику». Чжун-цзы, полностью развивший в себе этот инстинкт эмпатии, способен спасти мир[497].
В конфуцианстве Мэн-цзы нет ничего сверхъестественного, никакого влияния божественной благодати. Чжун-цзы просто открывает в себе потенциал, от природы присущий каждому. Как формулирует Мэн-цзы, чжун-цзы приобретает эту нравственную харизму, следуя пути Неба-и-Земли, базовым ритмам, управляющим вселенной – и поэтому естественным образом оказывает глубокое влияние на каждого встречного: «Чжун-цзы преображает все на своем пути и творит чудеса везде, где пребывает. Он в одном потоке с Небом вверху и Землей внизу. Возможно ли, чтобы он не приносил великого блага?»[498]. Конфуций верил, что лишь великие цари отдаленного прошлого смогли достичь мудрости. Но Мэн-цзы настаивал, что это доступно для каждого, здесь и сейчас: любой может уподобиться Яо и Шуню. «Если ты носишь одежды Яо, – учил Мэн-цзы, – произносишь слова Яо, ведешь себя как Яо – ты и есть Яо»[499]. Дао, Путь Неба – не какое-то внешнее правило, навязанное тебе «снаружи»: это то, что ты открываешь в себе день за днем, час за часом, совершая дела сострадания и исполняя Золотое Правило, помогающее чжун-цзы познать глубинную связь всех вещей.
Все десять тысяч вещей – здесь, во мне. Нет для меня большей радости, чем проверить и убедиться, что я верен себе. Делай все возможное, чтобы поступать с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой – и увидишь, что это кратчайший путь к человечности [жэнь][500].
Слишком часто, однако, человек теряет связь со своей внутренней мудростью и «позволяет сердцу сбиваться с пути». Единственный способ вернуть на место заблудшее сердце – «учение» (сэ), состоящее не в заучивании сложных доктрин, а в том, чтобы неустанно развивать в себе человечность[501].
Таким образом, преображение и обретение мудрости доступны каждому. Они приобретаются практическим знанием, достижимым через исполнение ритуалов: сам термин «самовоспитание» (сэ-шень) буквально означает «воспитание тела»[502]. Соблюдая ли, мы учимся правильно стоять, двигаться и есть, очищать наше привычное «я» и вдохновлять к тому же других. Мен-цзы рассказывал, что Шунь вырос в деревне, среди коров и свиней, однако, когда услышал благопристойные речи и увидел ритуализованные действия при дворе Яо, это произвело на него потрясающее действие: «Словно вода прорвала плотину на реке Янцзы или Желтой. Этот поток нельзя было остановить»[503]. Скрупулезное соблюдение ритуалов позволяет чжун-цзы сделать сострадание настолько естественной и неотъемлемой частью своего бытия, что весь он преображается: жэнь проявляется «в его лице, придавая ему благостный облик, являет себя в его спине, распространяется на руки и ноги, и весть его становится понятна без слов»[504]. Истинное прозрение, верил Мэн-цзы, скорее можно вызвать не словами, а молчаливым примером. В его списке пяти моделей образования словесное преподавание стоит вторым с конца:
Чжун-цзы преподает пятью способами. Первый – преображающее влияние, подобное своевременному дождю. Второй – помощь ученикам в полной реализации их добродетели. Третий – помощь ученикам в развитии их талантов. Четвертый – ответы на вопросы учеников. И пятый – пример, которому можно подражать даже издалека[505].
Мэн-цзы жалуется на педантичный и агрессивный стиль современных ему религиозных дебатов: моисты и последователи Яна вечно стараются навязать свои учения другим. Однако с грустью признает, что в нынешние смутные времена и ему самому порой приходится прибегать к такому стилю дискуссии, чтобы «исправить людские сердца… и поставить заслон крайним взглядам»[506].
Дальше Мэн-цзы делает неожиданное заявление. Конфуций, говорит он, тоже чувствовал себя обязанным исправлять ошибки своего времени, поэтому составил «Анналы Весны и Осени», которые «вселили ужас в сердца мятежных подданных и непочтительных сыновей» и принесли китайскому обществу мир и спокойствие[507]. Ученые считают, что речь может идти о некоей древней практике, восходящей, возможно, к IX в. до н. э.: каждый день на протяжении года императорам Чжоу и их предкам в храме предков вручались краткие сообщения о текущих событиях. Но почему Мэн-цзы приписал составление анналов Конфуцию? Изначально, объясняет он, за составлением истории надзирали императоры Чжоу: также они отправляли чиновников в села собирать песни минь, которые потом распространялись по всему народу, и это гарантировало, что голос «малых сих» будет услышан. Но более поздние императоры отказались от этого обычая и вообще перестали жить согласно Мандату Неба, так что Конфуций счел себя обязанным написать «Анналы», чтобы обличить тиранию и коррупцию своего времени[508]:
Были случаи убийств царей подданными и отцов сыновьями. Конфуций, возмущенный этим, составил «Анналы Весны и Осени». Строго говоря, это была прерогатива царя. Вот почему Конфуций сказал: «Те, кто понимает меня – поймут и “Анналы Весны и Осени”; те, кто осуждает меня – осудят и “Анналы Весны и Осени”»[509].
Мудрец обязан отвечать на вызовы своего времени. Древние Мудрые Цари, столкнувшись с наводнением, приняли практические меры; Князь Чжоу после победы восстановил порядок в стране, подчинив себе варваров; а Конфуций исправлял сердца и умы, составив писание. Хотя сам Конфуций прямо говорил, что никогда не писал ничего от себя, а лишь передавал мудрость древних, то, что он автор «Анналов», теперь принималось без доказательств – и этот загадочный текст также сделался важным элементом китайских писаний.
* * *
К концу V в. до н. э. старые арийские племенные княжества на востоке долины Ганга вошли в несколько крупных и постоянно расширяющихся царств, образовавшихся вдоль реки Ганг: Кошалы на севере, Каши и Магадхи на юге. Дальше на восток возникли несколько «республик» – Малла, Колия, Видеха, Вадджи, Шакья и Личави – управляемых собраниями (сангха) аристократов. Растущая урбанизация способствовала выделению торгового класса, сформированного вайшьями и шудрами и уже не вполне укладывающегося в прежнюю сословную систему. Жизнь в городах поощряла инновации и эксперименты как в практических, так и в религиозных вопросах. Многих смущал рост насилия и безжалостность этого нового мира, где цари навязывали народу свою волю, а экономика подпитывалась алчностью. Все больше людей ощущали, что жизнь дуккха — «пуста», «порочна», «неудовлетворительна».
Стремительное развитие общества заставляло городских жителей с особой остротой ощущать быстроту перемен. В деревне, где жизнью управляли времена года, все из года в год делали одно и то же. Но в городах, где жизнь решительно преобразилась, люди на собственном опыте обнаруживали, что их «действия» (карма) имеют долгосрочные последствия. Так в Индии укоренилась новая религиозная идея, оказавшаяся очень долговечной. Традиционная ритуалистическая теория гласила: если в течение жизни человек совершит достаточное количество безупречно исполненных жертвоприношений, это обеспечит ему вечную жизнь в мире богов. Но люди быстро теряли веру в действенность этих долгих и сложных ритуалов, совсем не вязавшихся со стремительной городской жизнью. К V в. до н. э. повсеместно считалось, что всем без исключения придется снова и снова возвращаться в этот мир недугов, боли и смерти; старость, болезни и смерть каждому предстоит переживать снова и снова, без надежды на освобождение. После смерти люди и животные перерождаются на земле в новом состоянии, которое определяется их действиями в последней по времени жизни. Дурная карма ведет к тому, что ты переродишься рабом, животным или даже растением; хорошая карма позволяет в следующий раз родиться царем или даже богом. Но даже бог рано или поздно исчерпает хорошую карму – источник своей божественности. Тогда он умрет – и снова возродится здесь, на земле, в куда менее приятных условиях. Итак, все существа заперты в порочном круге сансары («продолжения»), толкающем их от одной жизни к другой[510].
Люди жаждали новых решений, и постепенно приобрели популярность «отрекшиеся». Уже в VII в. до н. э. некоторые жертвоприносители, совершавшие, согласно «Брахманам», ритуализованное «путешествие на небеса», после ритуала не хотели возвращаться к повседневной жизни. Вместо этого они решали остаться в мире Брахмана: отказывались от обычной жизни, покидали своих родных и уходили в леса, где вели жизнь грубую и скудную, не имея ничего своего и кормясь милостыней. Некоторые образовывали общины и поддерживали традиционный священный огонь; другие были враждебны официальному культу[511]. В день, когда «отрекшийся» покидал дом, он бросал в огонь свое последнее приношение, а затем тушил пламя; далее ему требовалось найти гуру, который бы посвятил его в жизнь «молчаливого мудреца» (муни), ищущего «просветления» (ятхабхута), иначе говоря, «пробуждения» своего истинного, более аутентичного «я». К V в. до н. э. «отрекшиеся» стали в Индии основными провозвестниками религиозных перемен[512].
Возникло много аскетических школ: каждая складывалась вокруг учителя, обещавшего освобождение (мокша) от сансары. Об этих школах нам известно немного, но, по-видимому, все «отрекшиеся» приносили четыре обета: не убивать, воздерживаться от лжи, воровства и секса. Видимо, в школах учили, что жизнь – в самом деле дуккха, однако некоторые виды аскезы и медитации способны освободить нас от желаний, вызывающих потребность действовать и тем привязывающих нас к сансаре. Сложных писаний, пригодных для заучивания и устной передачи, здесь не было: учение (дхарма) основывалось на личном опыте гуру. Если для вас это учение срабатывало – вы достигали мокши; если нет – просто переходили к другому учителю[513].
Но две из этих школ со временем создали важные писания. Любопытно, что основатели обеих происходили из племенных «республик», в которых старые ведические идеи имели меньше влияния. Первым был Вардхамана Джнатрипутра (497–425 гг. до н. э.), ученики которого прозвали его Махавира («Великий муж») – титул, обычно предназначавшийся бесстрашному воину[514]. О жизни его мы знаем очень мало: древнейшие известные нам источники относятся ко II и I вв. до н. э. По-видимому, он был сыном вождя-кшатрия, готовился к военной карьере, однако в возрасте тридцати лет стал «отрекшимся» и двенадцать лет в одиночестве, без гуру, искал мокши, лишая себя пищи и сна, пребывая нагим на мучительной летней жаре и на зимнем холоде. Однако не этот драконовский режим принес ему просветление: он достиг мокши, развив новый взгляд на мир, перевернувший вверх дном воинскую этику его молодости.







