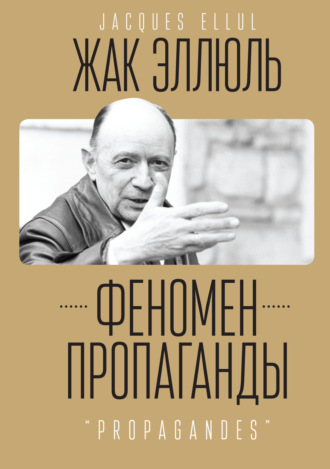
Жак Эллюль
Феномен пропаганды.
Пропаганда и колеблющиеся
То, о чем мы говорили выше, стоит прояснить и дополнить коротким исследованием вопроса, хорошо знакомого тем, кто называет себя political scientists, вопроса, посвященного колеблющимся[83]. Это – люди, мнение которых окончательно еще не сформировалось, которые на самом деле составляют довольно большую часть населения и те, которые для пропагандиста представляют большой интерес. Стоит уточнить, что колеблющиеся и безразличные – это разные группы. К последним относят тех, кто считает себя «аполитичным», не имеющим мнения, таких не больше 10 %. А вот колеблющиеся – это не те, кто стоит особняком, напротив, они принимают активное участие в жизни общества, но пока еще не составили мнения относительно острых проблем современности. Они пока находятся в резерве, чтобы принять окончательное решение. Задача пропагандиста – подтолкнуть их к этому, превратить их потенциал в решительное действие. Но это осуществимо только в том случае, если этот человек реально включен в жизнь сообщества, в котором он живет. Как в этом убедиться? Какова реальная позиция колеблющихся?
Мощным фактором, влияющим на процесс принятия решения индивидуумом и на его позицию, является более или менее глубокая интеграция в жизнь коллектива. Пропаганда может вовлечь его в свои сети, только если он хоть как-то участвует в социальных процессах. Крестьянин с хутора или лесник, имеющие эпизодические контакты с общиной только на деревенском рынке, мало вовлеченные в жизнь своего села, мало чувствительны к пропаганде. Она для них практически не существует. Только тогда они обратят на нее внимание, когда под влиянием обстоятельств будут вынуждены изменить образ жизни или когда в результате экономических потрясений не смогут продавать свою продукцию по обычным правилам. То есть какие-то социальные потрясения могут открыть для пропаганды двери, но в тишине леса или в горах она теряет силу воздействия.
Напротив, с тем, кто вовлечен в социальную жизнь, имеет «общий интерес» с другими членами сообщества, участвует вместе с соседями в общих делах, пропаганде легко справиться. Я читаю в газете яркую рекламу новой модели автомобиля, но она меня нисколько не интересует, потому что я не фанат механики и не автолюбитель. Вот если бы тема задела меня за живое, я мог бы обратить внимание на эту рекламу. Значит, чтобы человек подвергся пропагандистскому влиянию, нужен предварительный коллективный акт. Пропаганда неэффективна, если нацелена на индивидуальные предпочтения индивида, надо, чтобы сообщество проявило интерес к теме, чтобы толпа отдельных индивидуумов имела общий центр интересов.
Вот почему религиозная пропаганда, например, в настоящее время не дает результата: большинство членов общества уже не интересуются вопросами веры. В свое время в Византии из-за расхождений по теологическим вопросам люди были готовы вступить в драку, а сейчас только отдельных индивидуумов интересует религия. Она стала частной темой для некоторых, общество в целом к этой теме уже остыло.
А вот пропаганда современных технических идей, несомненно, вызовет в обществе резонанс. Политические темы сейчас также популярны. Поэтому пропаганда будет иметь успех внутри каждой из этих групп, объединенных общим Центром интересов.
Будем осторожны с определениями: говоря о центре интересов, мы не имеем в виду распространенные заблуждения и общепринятые стереотипы, т. к. они уже несут в себе некое суждение, оценку. Напротив, у общего центра интересов точка зрения не выработана. Например, политика в наши дни представляет, несомненно, центр общих интересов (в XII веке такого не было). Левые с одной стороны или правые политические убеждения уходят на второй план; они уже становятся частной точкой зрения, но превалирующий для всех, коллективный интерес представляет политика. Для пропаганды представляет интерес уже не те или иные политические убеждения, а коллективный центр интересов – политика как таковая, теперь именно она определяет сферу действия возможной пропаганды. Конечно, левые или правые предпочтения, сформированные под влиянием воспитания, образования, профессии и т. д. имеют отличия с точки зрения их происхождения, но они – частное дело каждого, а вот политика – продукт всего общества, общий центр интересов. Почему человек сегодня так интересуется техникой? Ответить на этот вопрос можно, проведя исследование всего современного общества. То же касается любого центра интересов, доминирующих в сообществе. Следует отметить, что эти центры характерны практически для всех частей света. Примерно аналогичным образом возникают и развиваются центры интересов в сфере политики в Азии, в Африке, у мусульман, у православных. Распространение по континентам одинаковых сфер интересов гарантирует в то же время и распространение пропаганды. Она, конечно, не идентична в разных странах, но существует по одинаковым схемам по отношению к одинаковым центрам интересов.
Пришло время упомянуть еще один важный признак из области социальной психологии, характерный для пропаганды: она эффективна настолько, насколько социальная жизнь в группе, частью которой является человек, ярка и интенсивна.[84] Пропаганда в группе, где слабо выражены чувство единения, где нет общей идеи, члены которой не имеют ярко выраженного общего центра интересов, где редко происходят споры по неважно каким вопросам, не имеет практически шансов дать хоть какой-нибудь результат ни в отношении отдельного члена группы, ни в отношении группы в целом. И напротив, пропагандистская работа результативна, если сообщество активно в проявлении общих интересов, и не только: члены этой группы более восприимчивы к пропаганде вообще. Чем активнее ведет себя группа, тем в большей степени ее члены готовы воспринимать пропаганду и верить ей[85]. Но это касается только пропаганды внутри группы по отношению к ее членам. Если мы пойдем дальше, то увидим связанную с этим явлением, но более глобальную проблему: насколько активна жизни внутри сообщества. Не вызывает сомнений тот факт, что в активных сообществах коллективная жизнь может быть слабо выражена; и наоборот: слабые сообщества могут демонстрировать высокую степень коллективной жизни. Исторически сложилось так, что даже при дезинтеграции общества интенсивность коллективной жизни может быть высока. Так, как случилось, например, в Римской империи к IV веку, в Веймарской Германии или даже во Франции в наши дни. Неважно, насколько коллективная жизнь отражает здоровье общества, главное для пропаганды – насколько она насыщена и сенсационна, независимо от того, какие причины вызывают эту интенсивность. Когда в обществе преобладают дезинтеграционные процессы, их интенсивность располагает членов этого общества прислушиваться к пропаганде, не заостряя внимания поначалу, к чему именно она призывает. Индивидуум, возможно, и не готов выразить то или иное мнение, но он более податлив на психологическое воздействие.
Неважно, кстати, по какой причине общественная жизнь стала интенсивной, вызвана ли она естественными причинами, или же создана искусственно. Причинами могут служить напряженность политической жизни или экономические проблемы, как во Франции в 1948 году или в средневековых городах. А может возникнуть из-за манипуляций определенных групп, как в гитлеровской Германии или в фашистской Италии. В любом случае результат один: человек оказывается втянут в водоворот событий и потому подвержен влиянию пропаганды. Тот, кому удается остаться в стороне от общественной жизни, именно по этой причине оказывается вне влияния пропаганды.
События в основном формируются, как можно предположить, вокруг центра интересов, т. е. развитие ориентированно не в случайном направлении, оно структурировано по форме и по содержанию. Напряжённость общественной жизни приводит не к бессвязному взрыву во всех направлениях, скорее она представляет собой силовое поле, и центр интересов служит ему своего рода ориентиром: часто именно благодаря ему интерес социальной жизни сосредотачивается в одном направлении (например, в Европе XIX активным центром притяжения стала политика). Вокруг такого центра интенсивность общественной жизни проявляется наиболее ярко. Например, в наши дни безусловным центром интересов является бизнес: если кто-нибудь пассивно участвует в социальных процессах группы, если разговор касается прочитанных книг или семейных отношений, но он тут же готов активно поддержать разговор, как только речь заходит о бизнесе. Его реакция не субъективна, она продукт его участия в жизни сообщества. Таким образом, мы в качестве заключения сформулируем три принципа:
– пропагандист должен искать сюжет для пропаганды внутри поля, на котором сосредоточены центры интересов данной группы;
– пропагандист должен иметь в виду, что пропаганда будет более успешной в той группе, где социальная жизнь протекает активнее;
– пропагандист должен помнить, что социальная жизнь группы более интенсивна в том случае, если она отражает общие для группы интересы.
В том случае, если пропагандист учитывает эти принципы в своей работе, ему удастся привлечь колеблющихся и присоединить их к большинству, смело рассчитывая примерно на 93 %[86]; с остальными нерешительными и колеблющимися можно поговорить, чтобы помочь им определиться со своей позицией, ссылаясь на неоднозначность выбранной темы пропаганды, давление со стороны большинства, фрустрацию и т. п.
Правдива ли пропаганда
Остается упомянуть о всем известной проблеме, которая почему-то редко обсуждается: речь пойдет о том, насколько близка пропаганда к истине (точнее о соотношении описания факта с реальностью. Поговорим о том, насколько точно изложенные в пропаганде факты отражают правду жизни, термин «истина» здесь не очень подходит, лучше использовать общепринятое значение, отраженное в разговорном языке словом «реальность» или «правда»). Чаще всего понятие пропаганды связывают с ложью, измышлениями, называют ее враньем, считая, что иначе быть не может. Сам Гитлер подтвердил эту точку зрения, утверждая, что чем больше лжи, тем скорее публика в это поверит. Отсюда проистекают две позиции по отношению к пропаганде: первая – «Мы не станем жертвами пропаганды, потому что способны отличать правду от лжи». Это очень удобная для пропаганды позиция, так как пока люди уверены, что им сообщают правду, они не считают это пропагандой, тем самым они делаются для нее более доступными, легковерными.
определение понятию пропаганды, считает эту ее особенность основополагающей. Но это утверждение в корне не верно. Все пропагандисты на каждом углу уверяют, что их главная задача – избегать лжи[87]. Наиболее часто встречаемое утверждение любого пропагандиста: «достоверность в пропаганде вознаграждается». Еще Ленин об этом говорил.
В противовес мнению Гитлера можно вспомнить рекомендации Геббельса по поводу точности в изложении распространяемых фактов[88]. Как объяснить это противоречие? Для этого стоит, пожалуй, различать в пропаганде сам факт и его интерпретацию, его представление публике, иначе говоря – определить границу между материальной структурой и моральной составляющей. Точность, за которую стоит бороться, находится на уровне факта. Необходимая ложь, которая тоже чего-то стоит, находится на уровне изложения этого факта. Таково фундаментальное правило интерпретации событий, принятое в пропаганде.
Проблема факта: всем давно известно на примере рекламы, что правдивость, точность в описании товара и услуги являются важной составляющей. Клиент должен доверять объявлению, если по опыту он поймет, что его обманули, и так несколько раз, очевидно, что он больше не будет доверять рекламе. Вот почему рекламодатели строго следуют этому правилу и даже организовали фирму, которая проверяет рекламные обещания с целью выявить недобросовестную рекламу, вводящую в заблуждение потребителя, а также выдает знак качества тем, кто честен. Но есть такой объективный проверочный критерий – опыт. В таких вещах, как политика, очень трудно проверить посулы опытным путем, поэтому стоит различать частные случаи, где опыт может служить проверкой правдивости, и другие. Очевидно, что пропаганда должна действовать очень осторожно в первом случае, где проверка возможна, иначе она разрушит сама себя. Пренебречь проверкой достоверности можно, конечно, но тогда население нужно держать в ежовых рукавицах, чтобы пропагандировать что угодно, рассчитывая, точнее будучи уверенным, что тебе поверят, но это – редкий случай, имеющий потом неприятные психологические последствия.
Для более сложных вещей, глобальных и протяженных во времени, где проверка пропагандистских посулов обычным экспериментальным путем невозможна, точность в изложении фактов, в общем и целом, тоже стараются соблюдать. Можно согласиться с тем, что статистические данные, предоставленные страной Советов и США, скорее всего, верны за небольшим исключением. К тому же вряд ли у кого-то появится интерес основывать пропагандистскую кампанию на вымышленных или подтасованных статистических данных. Статистика как правило не врет. Ярким примером обманной пропаганды может служить запущенная коммунистами история с бактериологическим оружием. Без сомнения, в какой-то момент она была необходима с определенной точки зрения, и многие «истинные патриоты» поверили в то, о чем тогда говорилось. Но среди колеблющихся она вызвала скорее негативный эффект, они заметили противоречия, налет неправдоподобия в этой вымышленной истории и решили, что это – неудачная попытка властей навести тень на плетень. Но если подобное случилось бы в Западной Европе, история вызвала бы большой резонанс в Северной Африке и в Индии. Стоит заметить, однако, что иногда случалось добавить ложь к реальному факту, и это небесполезно, но теперь встречается все реже[89].
К этому замечанию следует добавить три поправки. Прежде всего, пропаганда может с легкостью базироваться на осуждении лжи, основываясь на факте, который на самом деле реально существовал, но который с трудом поддается проверке. В такого рода упражнениях преуспел Хрущев: он с возмущением обвинял во лжи тех, кто руководил страной до него, чтобы убедить всех в правдивости своих собственных заявлений. Так в декабре 1958 года на заседании ЦК Компартии он утверждал, что Маленков «закоренелый обманщик», что предоставленные им статистические данные – это вымысел и подтасовка. У меня нет оснований верить Хрущеву больше, чем Маленкову, но я понимаю, как это работает: раз Хрущев осуждает Маленкова за то, что тот лжет, значит сам Хрущев говорит правду. Хрущев, называя Маленкова лгуном, понижает приведенные Маленковым цифры собранного в 1952 году урожая зерновых (не 9,2 миллиарда пудов, а, якобы, 5,6 миллиардов), а значит, по словам Хрущева, за 6 лет к 1958 году урожайность возросла не на 15 %, а на 75 %! Это потрясающе! Но в этой ситуации почему-то я в большей степени склонен считать, что верные цифры привел не Хрущев, а Маленков[90].
Вторая поправка касается манеры представления фактов. Если событие или цифры составляют часть пропаганды, можно проверить их достоверность, но обычно факты представляются таким образом, что слушатели или читатели не могут понять, откуда они взяты, или не понимают, какие выводы можно сделать из представленной информации. Цифры, например, подаются вне всякой связи с источником данных, заявляется, что производительность возросла на 30 %, но не указывается за какой период времени, или, к примеру, говорят, что уровень жизни возрос на 15 % без пояснений о том, каким образом ведутся подсчеты и т. д. Таким образом, приведение цифр в рамках пропаганды – очень удобный способ манипулирования, если трудно понять, насколько они не согласуются между собой и противоречивы[91]. Исходя из процентных показателей сложно понять картину в целом. Можно, конечно, провести исследование, восстановить зависимость, сопоставить с другими источниками, но эта работа требует времени и терпения, а также специальных знаний. Эта работа – для опытного специалиста, конечно, можно все привести в порядок, но результат появится много позже пропагандистской акции, к тому времени она уже произведет нужный эффект. Кроме того, результат исследования будет опубликован в виде технического отчета и станет известен лишь небольшой аудитории. Публикация результатов исследования, отражающих реальное состояние вещей, для пропаганды не представляет большой опасности. Но современный пропагандист, не желая рисковать, не станет откровенно врать, он предпочтет умолчать о фактах, не согласующихся с его кампанией. Не случайно пятая часть рекомендаций, которые Геббельс составил между 1939 и 1944 годами для печатной прессы, относились именно к умалчиванию. То же самое можно сказать и о советской пропаганде. Если событие нельзя было утаить, о нем упоминали вскользь, или информация о нем появлялась много времени спустя. Так, например, случилось с докладом Хрущева на XX съезде: во Франции и в Италии информация о нем появилась лишь несколько недель спустя после того, как он прекратил работу[92]. Народ в Алжире узнал о событиях в Венгрии только в мае 1960, а до этого пресса ни словом не обмолвилась о том, что случилось в Венгрии в октябре 1958. А Хрущев в декабре 1958 года в докладе ЦК КПСС ничего не сказал о китайских коммунистах.
Обойти молчанием важное событие – превосходный пропагандистский прием, позволяющий исказить реальное положение вещей, изменить контекст происшедшего. Есть замечательный пример тому в пропагандистской кампании против бывшего президента Пьера Мендес-Франс: Мендес-Франс покинул Индокитай, Мендес-Франс уехал из Туниса, Мендес-Франс закрыл банк в Индии и т. д. Перечисление второстепенных событий, имевших место на самом деле, но ни слова о внутриполитической борьбе в Индокитае, об борьбе за независимость в Марокко и последующих вслед за этим событиях в Тунисе, ничего о заключенном предыдущем правительством соглашении по Индии.[93]
Есть еще много способов умалчивания или искажения правды. Но нам хочется указать на использование пропагандой публикаций о реальных фактах и о том, как таким образом запускается механизм внушения. Американцы называют эту технику «барбуяж» (пачкотня, грунтовка, зачистка сознания). Факты следует излагать таким образом, чтобы вовлечь читателя в водоворот событий социального характера. Кратко и четко предоставляя аудитории неоспоримые факты, надо сделать так, чтобы выводы на их основе были очевидны.[94] В итоге получается, что абсолютное большинство людей делают одинаковые выводы, таким образом формируется обобщенное мнение. Иначе говоря, происходит следующее: истинный факт не вызывает ни у кого сомнений, краткий, сформулированный в двух словах вывод через какое-то время укореняется в коллективном сознании. В такой ситуации никто не сможет пойти против мнения большинства. Любой оппонент, стоит ему попытаться разубедить аудиторию, будет обречен на неудачу. Если он попробует доказать всем, что в основе их общих убеждений лежит ложь, ему никто не поверит. Так в результате внушения формируется общественное мнение.
Суть понятия и его толкование: на этом уровне появляется ложь, но как раз здесь ее и труднее всего обнаружить. Тот, кто намеренно занимается фальсификацией, позаботиться о том, чтобы привести неоспоримые доказательства. Отрицать, что в Алжире применялись пытки, становится все труднее. Напротив, никакие аргументы и никакие доказательства нельзя использовать, если пытаться опровергнуть интерпретацию фактов. Всем ясно, что толкование любого факта будет разным, если его анализирует буржуазный экономист, советский политик, историк-либерал, ученый-теолог или марксист. Эти расхождения в толкованиях вполне объяснимы, так как видение факта с разных точек зрения связано с разными убеждениями исследователей. Но они окажутся еще более значительными, если свою интерпретацию предложит пропагандист, умеющий умышленно искажать факты. Можно ли осуждать или подозревать в недобросовестных намерениях того, кто открыто провозглашает борьбу за мир? Но если события демонстрируют, что на самом деле он развязал войну, он всегда может сослаться на обстоятельства, которые оказались выше его доброй воли, или указать на тех, кто его к этому принудил. Мы уже забыли о том, что Гитлер в период с 1936 по 1939 год постоянно провозглашал свое желание укреплять мир, предлагал решить все проблемы мирным путем при своем посредничестве. Он никогда открыто никому не угрожал и не заявлял о намерении начать войну. Если он вооружал страну, то «из-за блокады Балкан». Все кончилось тем, что Англия и Франция объявили ему войну, значит ли это, что вовсе не он – поджигатель войны[95].
Пропаганда по своей природе всегда выливается в искажение фактов, предвзятое освещение событий и ложные толкования. Пропагандист начинает с оправдания своих поступков и параллельно осуждает действий противника. Но осуждение не просто по любому поводу, безосновательно или голословно[96]. Нельзя осуждать просто так за какое-либо злодеяние: смысл в том, чтобы осуждать за то, что сам намеревался сделать, за преступление, которое сам намеревался совершить. Тот, у кого есть намерение развязать войну, должен не просто на словах демонстрировать свое стремление к миру, но и осуждать противника в идеологической борьбе за то, что тот стремиться к войне. Тот, кто содержит концентрационные лагеря на своей территории, должен осуждать своего соседа за то, что он это делает. Тот, кто намеревается установить диктатуру, должен обвинять своих партнеров в диктаторских замашках…
Обвинения о плохих намерениях, которые кто-то выдвигает, обнаруживает его собственные недобрые стремления, но публика не может сразу этого понять, так как обвинитель ссылается на достоверные факты и убедительно разоблачает своего противника. Механизм, который здесь хорошо работает, основан на смещении обсуждения приводимых в доказательство реальных фактах в сторону рассуждений о моральной стороне проблемы, обсуждение их с этических позиций. Во время Суэцкого кризиса различия в намерениях Насера и франко-английской коалиции обнаружилась в различиях при интерпретации фактов двух пропагандистских планов с египетской стороны и со стороны прогрессивных сил, что доказывает, что правильно организованная пропаганда может привести к взаимопроникновению и даже к совпадению интерпретаций, несмотря на разность целей. В качестве примера можно вспомнить о событиях, которые происходили в Мюнхене, где между обеими сторонами произошло смешение в интерпретации фактов. Еще один удачный пример на эту тему мы находим в пропаганде FLN (Front de la Libération Nationale – Фронт Национального Освобождения, левая политическая партия, в годы войны за независимость в 1954 г. возглавлял национально-радикальное движение против Франции, далее – ФНО) во Франции и в пропагандистских речах Фиделя Кастро.
Второй элемент допустимой лжи, к которой прибегает пропагандист, и о чем нам следует здесь упомянуть, заключается в том, что он ни в коем случае не может разоблачать истинные намерения того, в чью пользу он ведет пропаганду. Пропаганда не должна проболтаться о настоящих планах правительства, обнародовать его секреты! Потому что с одной стороны в таком случае они окажутся в поле публичных дискуссий и столкновения различных мнений, что губительно отразится на кампании, а с другой, что еще опаснее, – эти планы станут известны оппозиции, и она сделает все возможное, чтобы их провалить. Пропаганда, напротив, должна служить ширмой для этих планов и истинных намерений.[97] Она как дымовая завеса до поры до времени скрывает маневры в ходе морских сражений. Настоящие баталии совершаются под покровом словесной шумихи, где и сосредоточено внимание широкой публики. Получается, что пропаганда сообщает населению как раз то, что делать никто не собирается, причем говорит это убедительно, словно это – чистая правда. Так говорят обычно о мире, об истинных ценностях, о социальной справедливости. Разумеется, нет необходимости объяснять, как именно к этому прийти, уточнять пункты реформ и называть точные сроки, иначе потом трудно будет объяснить расхождение между тем, что было обещано, и тем, что будет сделано. Хотя сравнивать обещанное и достигнутое можно только в том случае, если пропаганда относится к ближайшим событиям. Чтобы не рисковать, ей лучше придерживаться таких тем, как мораль, ценности, добрые намерения, короче, таких, к которым трудно подобрать повод для упрека. Но если чей-то зловредный ум вдруг и здесь найдет противоречие, все знают, как сделать так, чтобы это не стало достоянием общественности.
Итак, когда пропаганда заводит разговор об истинных ценностях, о всеобщем благе, о справедливости, о счастье, она лжет, равно как и тогда, когда занимается интерпретаций фактов, приводит красочные примеры, предлагает правильные формулировки. Но, напротив, она точна, когда приводит верные цифры или говорит о реальных событиях, надо только помнить, что она это делает для того, чтобы создать словесную завесу реально происходящему, или чтобы с их помощью доказать более глобальную ложь, внутри которой эти примеры реально существуют. Так в мае-июне 1957 года Хрущев громогласно заявил, что СССР догонит и перегонит Америку по производству продуктов питания. В качестве доказательства он привел реальные цифры, подтверждающие прирост сельскохозяйственной продукции за последние 10 лет. Отсюда он заключил, что к 1958 году в Союзе будет столько же сливочного масла, сколько в США, а в 1960 они догонят Америку по производству мяса. Но в реальности ни к 58, ни к 60 году этого не случилось. Экономисты предсказывали, что в лучшем случае его прогнозы сбудутся к 1975 году, но он поднял их на смех, вызвав одобрение со стороны своего окружения. Вот – пример того, как на реальных цифрах можно создать словесную ширму, интерпретируя реальность по-другому.
Феномен лжи, применяемой в толковании реальных фактов в чьих-либо интересах, позволяет объяснить многие случаи пропаганды. Так, к примеру, гитлеровская пропаганда научилась систематически использовать ложь как инструмент трансформации сознания у населения, манипулируя такими понятиями как общечеловеческие ценности, извращая общепринятые моральные устои и на этой основе деформировать и разрушать психику индивида. Можно сказать, что обман стал основным механизмом управления обществом, но не обычное вранье, оперирующее вымышленными цифрами или ложными фактами, а более глубокая ложь[98]. Сталинская пропаганда – явление того же порядка.
В противоположность предыдущим примерам, можно утверждать, что американская и ленинская пропаганда[99] основаны не на вранье, а на поисках правды, но с использованием похожих пропагандистских приемов, ради того, чтобы создать общую систему ложных представлений. Так, к примеру, когда США провозглашают себя вечным и единственным защитником свободы всегда, везде и повсюду, или когда СССР настаивает, что только он является истинным глашатаем настоящей демократии, – все это примеры создания системы ложных представлений. Единственно, что, как правило, тут речь не идет о специально организованной лжи для достижения скрытых целей, скорее всего – это своего рода вера, чистосердечное убеждение, пусть даже и искреннее заблуждение, приводящее к искаженному восприятию действительности, ложным толкованиям и далекой от реальности интерпретации фактов, потому что их вера нужна им для того, чтобы противостоять реакции, она для них – как компенсация расхождения реальности и действительности, как вуаль, скрывающая ту действительность, которую они не хотят замечать. Возможно, что США, представляя себя защитником либеральных свобод, на самом деле в это верят, а СССР, считая себя чемпионом в борьбе за демократию, искренне полагают, что так и есть. Их представления не лживы, а ложны и, отчасти, являются результатом их собственной пропаганды. Очевидно, что успех коммунистической пропаганды против капиталистической построена на разоблачении ложных представлений капитализма: утверждаемая коммунистической пропагандой «истина» заключалась в том, чтобы вскрыть противоречия буржуазного общества (семейные ценности, блага трудовой деятельности, свобода и демократия) на фоне реальных фактов из жизни этого общества (плохие условия жизни и труда пролетариата и пр.) Эти ценности ложны, потому что они нужны только для того, чтобы представить доказательства успеха[100]. Но и сам коммунистический режим создавал систему ложных ценностей того же порядка. Как раз этим и занимается пропаганда: снабжает систему ошибочной интерпретацией происходящего, извращает факты, распространяет ложные представления. Мы как раз и находимся на той стадии развития общества, когда на наших глазах ложь разрушает глобальные представления о мироустройстве, меняет менталитет, переворачивает с ног на голову традиционные ценности и понимание справедливости. Система ценностей формируется у индивида под влиянием общества, построенного на фальсификациях, вот почему не имеет смысла каждый раз выяснять, где истинное утверждение или интерпретация, а где ложь, так как уже вся система построена на ложных представлениях. Когда инструмент верификации испорчен, все показания уже неверны, они не отражают реальность. Как бы мы не пытались восстановить сегодня исторический ход событий, это уже никому не удастся, так как воззрения наши уже сформированы определенным образом под действием все той же пропаганды. Пусть бы даже мы поверили в искренность представлений США или СССР о своем предназначении в этом мире и убедили бы себя в том, что их слова и поступки идут от чистого сердца, но как только вокруг ложных представлений они выстраивают систему пропаганды, тут же рассеиваются их заверения в честности, вскрывается продуманность их поступков, становятся понятными и объяснимыми их сфальсифицированные ценности. Ложь раскрывается в глазах лгуна. Нельзя заниматься пропагандой от чистого сердца. Пропаганда обнажает мистификацию и в то же время держит нас в ежовых рукавицах, не позволяя вырваться из плена ложных представлений.
Проанализировав характер пропаганды, мы смогли подойти к ее определению. Разумеется, мы не претендуем на исчерпывающую дефиницию, уникальную и исключающую все другие. Нам просто надо зафиксировать идеи в более или менее определенном понятии. Итак, пропаганда представляет собой совокупность методов, используемых определенными лицами, с целью подтолкнуть массу психически однородных индивидуумов, входящих в состав некой группы, к активному или пассивному действию с помощью психологических манипуляций.


