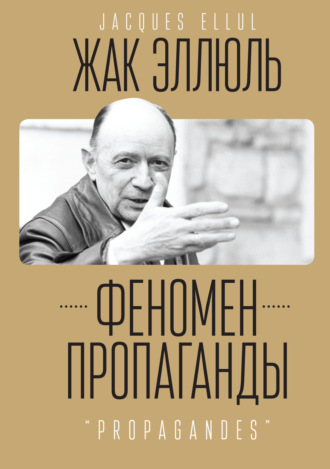
Жак Эллюль
Феномен пропаганды.
Так пропаганда становится движущей креативной силой. Иначе говоря, она руководит тем, что создает: страсти или предрассудки, которые ей удается разбудить в человеке, позволяют ей управлять им и, исходя из этого, она может заставить его сделать то, на что он до этого не был способен, о чем он раньше и не помышлял. Таким образом, нет оснований полагать, что пропаганда особенно на начальной стадии воздействия, ограничена в своих ресурсах. Она может атаковать исподтишка, действовать не торопясь, постепенно заменять старые идеалы новыми, не обращая внимания на прежние завоевания, создавать новые интересы, формировать новые предрассудки, отказываясь от привычных заблуждений, она может заставить человека действовать вопреки его убеждениям, да так, что он этого и не заметит.
Наконец, стоит особо подчеркнуть, что пропаганда не должна пытаться исправлять в человеке высокие гуманные идеалы, ставшие результатом эволюции человеческого самосознания, она не должна играть на благородных, пусть редких его чувствах, не должна ставить целью сломить человека, но может использовать некоторые его качества для реализации своих планов. То есть она может опираться на распространённые взгляды, общие стереотипы поведения, обычные чувства и примитивные поведенческие привычки. Исходя из этого ей принадлежит невысокое место среди факторов, определяющих поведение человека, и в том, что она в нем находит, чтобы использовать в своих целях, и в том, что она может ему предложить в качестве идеала, к которому надо стремиться[70]. Ненависть, страх лишений, гордыня, чувство превосходства и пренебрежение к другим скорее станут для пропаганды инструментом управления человеком, чем любовь, бескорыстие и честь.
Основные течения в обществе
Но пропаганда не должна ограничиваться только теми качествами, что найдет в человеке, она должна также принимать во внимание основные течения в обществе, в котором распространяет свое влияние. Она должна иметь в виду общие выводы по исследованиям социологов в отношении распространенных мифов, глобальных идеологий, характерных для мира вообще и для данного сообщества[71] в частности. Мы не имеем в виду текущие политические суждения временного характера, внезапно появляющиеся и исчезающие через полгода, но фундаментальные психосоциальные явления, на которых базируются общество, мифы и заблуждения, присущие не отдельному индивиду, и даже не определенной, но ограниченной прослойке в обществе, но свойственные всем людям общности в целом, политические взгляды и социальные убеждения, которые разделяют все без исключения члены общества, к каким бы классам они не принадлежали. Пропаганда, идущая вразрез c фундаментальными основами общества, являющимися реальными, с одной стороны, так как представляют собой базис, на котором общество строится, а с другой стороны – психологическими, так как в полной мере присущи и человеку, не имеет шансов быть успешной. А в том случае, если пропаганда основывается на настроении масс, учитывает принятые в обществе идеалы и ценности[72], выражает их, она будет услышана и принята. Пропаганда представляет собой составную часть цивилизационного кода, является материальным воплощением верований, моральный принципов, социальных правил, и не может быть от них отделена. Она потерпит крах, если займет позицию, противоположенную фундаментальным основам общества. Впрочем, речь идет именно об их психологическом воздействии, которые в пропаганде должны найти воплощение. Нам представляется, что они выражаются в двух основных формах в обществе: социальные представления, а также мифы и заблуждения. Под социальными представлениями мы понимаем совокупность чувств, верований и суждений, в соответствии с которыми общество безусловно принимает какое-либо событие или идею, не подвергая их сомнению. И эти социальные представления носят коллективный характер, т. е. разделяются всеми членами данного общества или данной социальной группы и принимаются с их молчаливого согласия. Какими бы ни были разногласия у отдельных представителей этой группы, американцев или русских, коммунистов или христиан, они лежат вне сферы этих общих социальных представлений; общих – потому что разделяются всеми, социальных – потому что благодаря им мы погружены в тот социум, которому принадлежим, они роднят нас с соплеменниками.
Нам представляется, что можно выделить четыре категории этих представлений в современном социуме. Мы подразумеваем под этим не только США и Западный мир, но все страны, участвующие так или иначе в техническом прогрессе и организованные по национальному признаку, то есть также и коммунистические страны, но пока еще не включая Африку и Азиатский мир. Получается, что общие социальные представления у буржуа и пролетариев и т. д. таковы: цель жизни человека – быть счастливым; человеческая природа изначально благостна; история человечества усложняется; цивилизация непрерывно эволюционирует; мир материален.
Если подобные формулировки кого-то натолкнут на мысль о философии, поспешим опровергнуть этот вывод – мы ни в коем случае не перечисляем тут философские сентенции, ни материализм, ни гедонизм, мы всего лишь пытаемся обобщить популярные представления об обществе и мире, отражающие мнение большинства и выраженные в конкретных словосочетаниях[73].
Другое отражение физической реальности современного мира мы находим в мифах и заблуждениях. Они отражают глубинные тенденции происходящих в обществе процессов и являются безусловным свидетельством принадлежности части человечества к определенной цивилизации, находящейся в фазе либо расцвета, либо кризиса. Эти представления ярки, красочны, стойки, иррациональны и в общих чертах дают представление о том, насколько глубоко в сознание индивидуума проникают заблуждения. Безусловно, они замешаны на отголосках религиозных верований. В нашем обществе я бы отметил два фундаментальных мифа, от которых отталкивается все мифотворчество современного общества: это Наука с одной стороны, а с другой – История. Именно в них находят свои истоки коллективные заблуждения современности, детерминирующие во многом поведение человека: миф о Труде, миф о Счастье (не путать с представлением о цели жизни человека – бать счастливым), миф о Национальных приоритетах, о Молодежи, о Героях и Героизме[74] и т. п.
Пропагандист должен тщательно изучать социальные представления и опираться на мифы, иначе никто не будет его слушать. Пропаганда может проникнуть в самую суть общества, к которому обращается, а может также ее усилить. Но если она попытается заменить стремление к счастью добродетельным поведением или предложит картину будущего в рамках жестких ограничений, она не соберет аудиторию. Ничего, кроме скандала, не вызовут пропагандистские заверения о том, что прогресса не существует. Потерпит крах идеология интеллектуалов, утверждающих, что счастье в работе и пр.
Стоит отметить, что удивительным образом социальные представления в сочетании с мифами дополняют друг друга. Если у представлений не хватает аргументов для защиты от пропаганды, появляется нужный миф, чтобы отразить атаку.
Поэтому пропагандистская работа должна основываться на символах и убеждениях той части населения, с которой она работает, чтобы завоевать сердца и умы каждого человека. С другой стороны, она не должна отступать от главной линии эволюции общества. Кстати, это согласуется с верой в прогресс. Есть, конечно, обычный ход эволюции, случайный, но закономерный, более или менее предсказуемый, даже если человек не может его осознать. И пропаганда должна ему следовать, если хочет добиться успеха. Понятно, что технический прогресс – процесс непрерывный и поступательный, и пропаганда должна отражать эту его особенность, чтобы соответствовать убеждениям человека. Она должна использовать веру человека в то, что прогресс неизбежен, что благосостояние человека улучшается на базе прогресса, что Нация приобретает преимущества перед другими, используя технические новшества, и т. п. Если вдруг пропаганда попытается убедить человека в пользе устаревших способов производства, старомодных форм управления, отживших стандартов социального устройства, ей не добиться успеха, хотя реклама иногда удачно ссылается на старые добрые времена, но политическая пропаганда не может позволить себе использовать этот аргумент. Эта последняя должна рисовать заманчивые образы светлого будущего[75], что особенно важно, если ее цель – привести человека к действию. Однозначно пропаганда должна следовать этому убеждению, а не идти против него. Тем более, что, двигаясь в потоке, она приобретет дополнительную силу воздействия. Например, используя естественное чувство национальной гордости, она усилит националистические взгляды. Опираясь на чувство патриотизма, она способствует созданию мифа о превосходстве расы и может получить шокирующие примеры готовности к действию.
А вот повернуть поток вспять практически невозможно. Допустим, в стране, где отсутствует централизация власти, еще можно развернуть пропаганду за усиление администрирования из центра, поскольку представления современного человека чаще всего рисуют картину мощного государства именно за счет сильной власти, но никакая пропаганда в обратном направлении невозможна. Пропаганда федерального устройства (настоящий федерализм приведет рано или поздно к разрушению национальной структуры, в отличие от так называемого федерализма по советскому или по европейскому образцу, которые, напротив, ведут к супер-национализму) не будет иметь успех, так как подрывает основы мифа о национальном единстве и мифа о социальном прогрессе: любое разрушение трудового единства и отказ от административной системы на местах воспринимаются населением как регресс, как деградация.
Понятно, что анализируя подчиненный характер пропаганды по отношению к социальным представлениям и распространенным мифам, мы не предлагаем ей все время их воспевать и с ними соглашаться: надо лишь постоянно говорить о счастье и росте благосостояния (во все времена эти темы популярны в народе), но в пропагандистской работе о них стоит помнить всегда и никогда не упоминать в обращении к человеку что-либо, что войдет в противоречие с общими представлениями и мифами. Своего рода молчаливое согласие подразумевает: человеку необязательно постоянно слышать от своего собеседника, что, например, «я тебя уважаю», это и так подразумевается в манере поведения, в оборотах речи и поэтому каждый постоянно и бессознательно чувствует, что другой разделяет его позицию по отношению к общим мифам и представлениям. То же и в пропаганде: человек, сам того не осознавая, ждет от нее, что она разделяет его убеждения, даже если напрямую об этом не говорит. Равно как и наоборот: пропаганде, в опоре на представление о пользе технического прогресса, легче убедить человека купить электробритву, чем кривую турецкую саблю.
Кроме учета общепринятых представлений и мифов пропаганде для успешной деятельности стоит иметь в виду еще два важных аспекта. Материалистический характер структуры общества и его эволюция, фундаментальные социальные процессы связаны, разумеется, с самой структурой. Пропаганда должна вплетаться и в материалистическую структуру общества и отражать одновременно материальный прогресс. Она включает в себя все аспекты, характеризующие состояние общества: экономическое развитие, административную структуру, политику и образование, иначе она ничего из себя не представляет. Она должна также включать в себя и местные национальные особенности. Так, например, для Франции характерна общая тенденция к социальным преобразованиям общества, и пропаганда не может ни обойти эту тему, ни подвергнуть ее сомнению. Левые настроения повсеместно приветствуются, а правым приходится защищать свое право на существование перед левыми (иногда даже правые отчасти разделяют левые взгляды). Пропаганда таким образом должна включать в себя принципиальные элементы левой идеологии, без этого ее не примут.
Но иногда между местными убеждениями и глобальной идеологией возникает конфликт… Бывает так, что интересы локальной группы противоречат тенденциям общества в целом. А иногда они даже доминируют, потому что связи внутри пусть даже небольшой группы прочнее, чем между остальными членами общества, но бывает, что большинство побеждает, потому что оно – большинство. Пропаганда будет успешной, если она угадает, какая позиция окажется сильнее, т. к. она отразит надежды большинства в обществе на данный момент времени. Например, на юге США проблема черного населения типична для такого рода конфликтов. Местное население одобряет дискриминацию черных, тогда как в целом американцы против расизма. В общем понятно, что рано или поздно расизм в отношении негров будет побежден, несмотря на сплоченность локальной группы представителей белой расы. Южанам придется со временем сдаться, так как для пропаганды своей позиции у них не найдется сторонников во внешней среде, например, среди европейцев. Пропаганда должна опираться на большинство в общественном мнении в мировом масштабе, а для Азии, Африки и большей части населения Европы присущи антирасистские настроения, так как они согласуются с мифом о социальном прогрессе.
Однако из вышесказанного не следует, что пропаганда должна однородна на всех континентах. Напротив, до настоящего времени она имеет много различий, особенно в Азии, Африке от остального мира. «До настоящего времени» – означает, что западные мифы постепенно завоевывают страны этих континентов по мере того, как к ним приходит технический прогресс и в обществе утверждаются национальные приоритеты. Но западные мифы, привычные для нас как кровь и плоть духовного наследия, пока еще не стали для этих народов простой житейской истиной. В конечном счете считаем доказанным утверждение о том, что пропаганда должна отражать фундаментальные представления и тенденции в структуре общества[76].
Отражение современности в пропаганде
Но есть и другая сторона: по форме пропаганда должна отражать как традиционные, так и современные тенденции в обществе[77]. С одной стороны человека можно заинтересовать и мобилизовать к действию, если совместить его внутренние убеждения с тем, что исподтишка предлагает ему пропаганда. С другой стороны, ему будет малоинтересна тематика пропаганды, если она будет далека от современности. Эти два элемента не то, чтобы всегда противоречат один другому, как может показаться на первый взгляд, они скорее взаимодополняемы, так как интерес вызывают те события современности, которые так или иначе сопоставимы с глубинными явлениями в обществе или являются их более привлекательным следствием. Так новый автомобиль потому привлекает внимание, потому что представляет собой техническое усовершенствование предлагаемого ранее. Неразрывная связь между актуальными фактами, которые могут быть использованы в пропаганде, и фундаментальными основами общества похожа на ту, что существует между девятым валом и остальной частью воды в море: волна существует, потому что прочая масса водной стихии поднимает ее над собой и несет к берегу. Эту волну человек и замечает, она привлекает его, вдохновляет, завораживает, только благодаря ей человек осознает, что такое море, в чем его сила и глубина, тогда как на самом деле без остальной воды волна не может существовать. Также и пропаганда, она не может обрушить на человека всю свою силу и влияние, не будучи связанной с основами его фундаментальных представлений, но могла бы она его заинтересовать, если бы не отражала мимолетные черты[78] сегодняшнего дня?! Это мгновенье, которое фиксирует взгляд человека, не случайно привлекает внимание и запечатлевается в памяти, оно напоминает ему мифы и представления, ранее сложившиеся в его сознании.
С другой стороны, публика всегда острее реагирует на события, если они связаны с текущим моментом. Главное, чтобы эти события задевали его за живое. Если человек спокоен, чувствует себя в полной безопасности, равнодушен к происходящему, пропагандистское влияние на него оказать невозможно. Возьмем, к примеру, среднестатистического индивидуума, типичного человека нашего времени – его не интересуют события далекого прошлого, равно как и метафизические проблемы философии, он не чувствителен к вселенскому горю или к вопросам, которые Бог мог бы ему задать на Страшном Суде. Единственно, что может вызвать его любопытство, это вопросы внутренней и отчасти внешней политики и экономика. Отсюда – пропаганда должна затрагивать именно эти темы современности. Если пропагандист попробует вызвать у публики интерес, опираясь на исторические факты, ему не добиться успеха. Никого не интересует пропаганда Вишистского режима против Англии, мнение Наполеона о Жанне Д’Арк… Пусть эти факты укоренились в истории Франции и на самом деле имеют большое значение для современности, они не станут удачной отправной точкой для современной Пропаганды. Очень быстро забываются и, следовательно, оставляют человека равнодушным даже события недавнего прошлого: исследование общественного мнения (май 1959 г.) показали, что среди молодых французов (от 14 до 15 лет) 70 % понятия не имеют, кто такие Гитлер и Муссолини, 80 % забыли включить Россию в список победителей во Второй мировой войне и никто не увидел связи между словами Данциг и Мюнхен с недавними прошлым.
Нужно также иметь в виду, что человек очень быстро меняется под влиянием обстоятельств. Стоит случиться чему-нибудь значительному, как человек теряет интерес к событию, даже если оно продолжает оказывать на него влияние. Человек испытывает чувство облегчения, как будто ему удалось этого избежать и ему больше нет до этого события никакого дела. С другой стороны, человек способен сосредоточить внимание на небольшом количестве важных событий. Удерживать в поле зрения сразу много существенных фактов ему не свойственно, новое вытесняет предыдущее. У большинства людей память устроена именно так. Так что событие недолго остается значительным, через какое-то время все о нем забывают, оно больше никому не интересно[79]. Например, в Бордо в 1957 году некое общество организовало конференцию по поводу угрозы атомной войны, был приглашен известный ученый-физик, событие представляло известный интерес (но не для пропаганды). Среди студентов были распространены множество листовок, афиши приглашали посетить событие, но никто из студентов не пришел. А почему? Дело в том, что в это же время в СССР запустили первый спутник, и именно это было у всех на устах. Публика просто «забыла» о том, что совсем недавно представляло для всех огромный интерес.
Публика всегда удивительно чувствительна к тому, что происходит в текущий момент времени. Она чутко реагирует на яркое событие, тем более, если оно как-то отражает мифы и заблуждения, распространенные в обществе в данный момент. Тут же все с воодушевлением или с негодованием начинают это обсуждать, забывая об остальном. К тому же если это все остальное, что было в центре внимания вчера или позавчера, уже стало привычным. Не то, чтобы об этом все забыли, просто потеряли интерес (мы понимаем, о чем идет речь) – феномен привыкания. Вдруг все начинают обращать внимание на Берлин, когда в 1958 году Хрущев сформулировал ультиматум, чтобы решить проблему Берлина. В начале 1959 года он сказал, что он дает три месяца на поиск решения. Прошло две-три недели, но война не началась, и, хотя проблема осталась, никто больше об этом не вспоминал, все уже привыкли к этой новости. Привыкли настолько, что когда срок ультиматума, установленный Хрущевым, истек (27 мая 1959), никто даже не обратил на это внимания, но только удивились, когда им об этом напоминали. Сам г-н Хрущев ничего не сказал, хотя он так ничего и не получил, только 27 мая упомянул вскользь о своем ультиматуме.[80] Этот факт показывает, что как пропагандист он никакой! Ведь невозможно организовать пропагандистскую кампанию вокруг события, которое никого не интересует, о котором все забыли. 30 ноября 1957 года коммунистические страны собрались и подписали соглашение, касающееся проблем мира и политики на международной арене. Был составлен потрясающий текст, один из лучших, которые когда-либо были написаны на эту тему. Примечательно, что никто на эту тему не высказался. Пропагандисты не заинтересовались, сторонники мира во всем мире не отозвались, хотя, по правде говоря, документ получился замечательный. Наверное, эта тема уже устарела и потому мир остался к ней равнодушен, не удалось «подогреть» к ней интерес видимо потому, что население не слишком обеспокоилось угрозой войны.
Здесь нам стоит, по всей вероятности, подчеркнуть, что пропаганда мира только тогда имеет успех, когда население боится войны. Коммунисты преуспели в этом: они сами создавали угрозу войны, тем временем активно агитируя за мир. Сталину удалось, постоянно угрожая войной, вовлечь в движение за мир не только коммунистов, но и некоторых сторонников других партий. Понятно, что это движение могло случиться только в условиях соответствующей политической обстановки. Но в 1957 году именно благодаря Хрущеву угроза войны перестала быть острой, поэтому тема борьбы за мир ушла из пропаганды. Но в то же время мир почувствовал исходящую от коммунистов угрозу из-за событий в Венгрии, и глобальная тема борьбы за мир отошла на второй план. Совокупность разных событий привела к тому, что текст договора, который мог бы стать главным в общественном мнении того времени, практически не был замечен и оценен по достоинству. В любом случае, этот факт лишний раз доказывает, что пропаганда должна иметь долгий и непрерывный характер и черпать сюжеты из текущих событий современности.
Употребляемые в пропаганде темы, сюжеты должны нести в себе заряд энергии, вызывать интерес, ломать барьеры безразличия в человеке; слова как «пули» должны проникать в мозг, вызывать сразу серию ассоциаций, зажигать и будоражить. Не стоит употреблять устаревшие слова, не надо также их специально повторять многократно с целью «вдолбить» в сознание. Только связь с сегодняшним днем может придать слову звучание, сделать его аффективным, взрывным. С одной стороны масс медиа позволяет пропаганде проникнуть в сердца человеческие, но не стоит полагаться исключительно на технические средства и обрабатывать население, пользуясь преимуществами, которые они дают. Надо искать мощные слова, так, например, появилось в Западной Европе слово «Большевик» в 1925 году, слово «Фашизм» в 1936, слово «Коллаборационист» в 1944, слово «Мир» в 1948, слово «Интеграция» в 1958. Но они же служат примером того, как слово перестает шокировать и теряет власть над людьми, когда событие перестает быть актуальным, уходит в историю.
Вместе с тем и пропаганда, какой бы силой она не обладала, выхватывая из потока событий те, которые в наибольшей степени способны оказать влияние на людей, она никак не способствует осмыслению этих событий, не позволяет углубиться в их суть. Человек остается на поверхности происходящего, не может оценить значимость, понять связь с предыдущей историей. Находясь в гуще событий, он не в силах остановиться, чтобы отрефлексировать их, понять себя, общество, мир, сфокусировать взгляд на самом главном или оценить взаимосвязь их всех. Мы уже упомянули тот факт, что человек не способен держать в уме множество фактов и событий, чтобы сложить их вместе, противопоставить одно другому или оценить зависимость одного от другого. Одно событие следует за другим и замещает его в поле зрения человека. Клин клином вышибают. Новое приходит на смену старому. В таких условиях мышление не справляется с потоком информации, человек не может позволить себе осмыслить и тем более взять на себя ответственность за происходящее, в лучшем случае он их чувствует, но не понимает связи или противоречий между последовательными событиями. Добавим к этому способность человека забывать то, что ему неинтересно или неприятно. А это, кстати, очень важная, даже полезная информация для пропагандиста: он всегда может сослаться на то, что ранее сказанное, услышанное, доказанное, проверенное уже просто стерлось из памяти. К этому можно добавить неосознанную защитную реакцию индивида, его способность не замечать противоречий, не обращать внимания на то, с чем он не согласен. Таким образом он бессознательно защищает себя от избытка информации, сохраняет целостность своего внутреннего мира. Но есть и другая сторона: человек по мере того, как он воспринимает события только поверхностно, не вникая в их суть, забывая и отказываясь от того, что произошло вчера, обрекает себя на фрагментарное восприятие собственной жизни, непонимание связи между причиной и следствием, между прошлым и будущим[81].
«Человек, живущий одним днем» очень удобный объект для пропаганды. В самом деле, такой человек очень чувствителен происходящему, его интересует буквально все, т. к. он не привязан к определенной теме, его настроение переменчиво, потому что он эмоционально реагирует на все, что ему предлагают, и он не способен сопротивляться влиянию именно из-за этой своей излишней эмоциональности. Он буквально купается в потоке разных событий, его возбудимость делает его психически неуравновешенным, что делает его легкой добычей любого пропагандиста[82]. Нет противоречия между происходящими событиями и реальным положением дел, нет прямой связи между событием и индивидуумом. Информация о происходящем никак не задевает человека, т. к. она не имеет к нему никакого отношения. Что может быть более впечатляющего и остросюжетного, чем распад атомного ядра? И тем не менее этот факт меркнет на фоне спортивных достижений, к примеру, так как для любого человека является малозначимой информацией (если, конечно, это не касается взрыва атомной бомбы). Обычному человеку не интересно погружаться в суть явлений, пусть информация будет поверхностной, но если она эффектна, сенсационна, будоражит чувства, то это как раз то, что надо. На это пропаганда должна ориентироваться, т. к. только это и может заинтересовать человека, вызвать отклик, привести к принятию решения или помочь выработать точку зрения.
Здесь мы должны сделать важное уточнение! Упомянутое событие может быть реальным фактом, объективно существующим, но может содержать в себе только голую информацию, т. е. в опоре на действительно существующие или придуманные события, т. е. распространяемая информация может быть как реальным, так и предполагаемым фактом. Иначе говоря, информация не обязательно представляет собой отражение объективной реальности. Проблема разделенного на две части Берлина – реальный факт, так уж сложилось, но этот факт давно уже публику не интересует. Но как только Хрущев сделал заявление о том, что это может послужить толчком к обострению отношений или даже вызвать войну и предложил немедленно решить проблему, поставив в известность Запад, заявив, что ждет от него уступок, как тут же событие стало поводом для освещения в прессе, (хотя объективно для Берлина ничего не изменилось). Когда вскоре Хрущев перестал угрожать войной (заметим, что в 1961 году это случилось уже в четвертый раз), факт утратил свою актуальность, перестал быть политической новостью.
Аналогичную информационную атаку СССР предпринял в ноябре 1957 года, заявив, что собирается напасть на Турцию. По этому поводу в Le Monde появилась статья, в которой говорилось: «Не стоит воспринимать всерьез звучащие в последние дни предостережения русских о так называемой бактериологической войне, но стоит извлечь урок – они, как оказалось, способны раздуть проблему на пустом месте, обвиняя всех вокруг в самых тяжких преступлениях, но буквально на следующий день заявить о том, что угроза миновала. Правда это не означает, что неделю или месяц спустя они вновь не начнут ту же кампанию». Мы рассмотрели проблему «актуального события» в контексте пропаганды. Но считаем своим долгом подчеркнуть, что событие, которое может задеть человека за живое, возбудить его любопытство, совсем не обязательно должен происходить из реальности, объективно существовать – и это во многом упрощает работу пропагандиста. Таким образом, не оно, событие реальное или придуманное, является отправной точкой для пропаганды, а реакция на него, проявленный интерес со стороны человека в тот момент, когда он понимает, в какой мере это «касается его лично».


