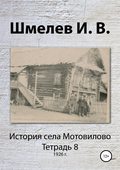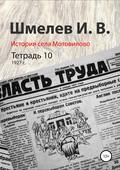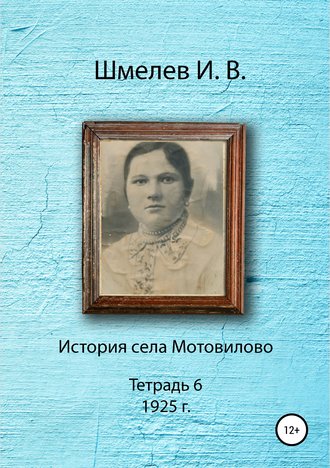
Иван Васильевич Шмелев
История села Мотовилово. Тетрадь 6 (1925 г.)
Земля – поле. Дорога. Карета Семиона
Хозяева всей земле в селе – народ. Село Мотовилово разделено на два общества: Шегалев – одно общество, остальная часть села – другое. Место, где стоит церковь – межа между обществами. Непосредственный исполнитель власти в обществе – выбранный народом «уполномоченный», который исполняет волю народа и подчиняется сельскому совету и ВИКу, который утверждает или снимает уполномоченного. Для равномерного распределения пахотной земли по едокам общество делится на выти, в которые входят несколько хозяйств, и каждая выть состоит из определённого и равного количества едоков. Ввиду того, что численный состав жителей села (едоков) ежегодно меняется (молодые нарождаются, а старые умирают), молодежь, образуя свои семьи, выделяясь из больших семей, создают новые хозяйства с определённым числом едоков, поэтому-то и приходится пахотную землю ежегодно снова переделывать. Исстари в народе такой обычай, извечно в селе такая традиция.
Пахотная земля в полях распределяется среди жителей села только по числу едоков в хозяйстве. Большая семья получает больше земли, малая семья меньше земли. Но ведь земля-то разная по близости от села и по плодородию: вокруг села (однодворица) – жирна и урожайна, плодородный чернозем, а за Большой дорогой земля плохая, илистая, она требует навоз, но он из-за дальности туда почти не вывозится. В поле земля поэтому распределяется более или менее равномерно, и для каждой выти земля наделяется в нескольких местах.
Накануне Радоницы мужики разделили землю по вытям, а в понедельник уговорились делить ее по хозяйствам. Сначала мужики поле обошли так, чтоб ознакомиться с землей, где какая досталась, а потом, посоветовавшись меж собой, приступили к дележу. Каждый для себя изготовил жребий, поставив на нем свою мету. Иван, сняв с головы шапку, с весёлой усмешкой на лице прикрикнул: «А ну, бросай жребий в шапку!» Все дружно побросали. Все приутихли. Каждый притаённо ждал для себя счастья в делёжке.
– Тяни, Ромк, кому достанется первому нарезать загон, – скомандовал Иван, с довольством улыбаясь и тряся шапкой в руках, тряся своей козьей бородкой. Первый жребий Ромка вытащил из шапкой с метой «Н»:
– Крестьянинова! – громко провозгласил Василий Ефимович. Федор, с недовольством поморщившись, сокрушённо протянул:
– Я так и знал, что эта земля с плешиной посредине мне достанется.
– Видно, такое счастье тебе, вишлитвоюмать-то, – захихикал Иван, – Жребий не судья, а справедливый рассудитель. Раньше по жребию в солдаты уходили! – с той же весёлой улыбкой балагурил Иван.
Второй жребий пал Трынкову, третий Савельеву, с метой «Г» (полоз), потом Федотову «S» (крюк), а там и остальным.
Весь день мужики проделили землю, проделывали прямые межи, идя на живые вешки на другом конце помера, делая лопатой копки, шаркая лаптями по прозимовавшей под снегом стерне. Оголенные от снега, потрескавшиеся от давящих морозов, облизанные буйными ветрами бугорки и пуповины земли, и все поле под воздействием теплого солнышка благоухало. Напоенная живительной влагой земля звала к себе пахаря и сеятеля, чтоб взрыхлённую плугом черную грудь принять в себя зерно, которое в земле спервоначалу умрет, а потом возродится в обильном урожае. Издревле поле проходит свой невидимый кругооборот: то оно черное, только что вспаханное плугом, то зеленеющее всходами, то золотится зреющими или сжатыми хлебами, то в зимнюю пору укрыто белой снежной пеленой. Когда в поле становится необъятный простор, снег да ветер, и так пустынно, что глазу не за что зацепиться. А теперь, весной, стаял с полей снег, схлынули с земли лишние талые воды, на припёке запарилась земля, потекло по земле струистое марево, зазвенели в высоте поднебесья жаворонки.
В поле пробудилась жизнь, вылезли из нор суслики и кроты, по-весеннему заработали в земле червячки и жучки, разрыхляя почву и разнося по ней полезные для урожая вещества, своим трудом помогая крестьянину-землепашцу. Теперь настало время, дело за самим пахарем.
Мужики, разделивши землю, уговорились завтра выезжать в поле пахать и сеять. Во вторник, на фоминой неделе, с утра выдался хороший, по-весеннему теплый денек. По небу плыли летней формы кучевые облака. Сидя на голых ветвях ветлы, трепыхая крылышками, с присвистыванием пели скворцы. Один заботливый скворец старательно чистил внутренность скворечника, выгребая и выбрасывая из него прошлогодний мусор.
Санька Савельев еще вчера предусмотрительно изготовил двухэтажную скворечницу и карандашом сделал на ней разграничительную наивно-шутливую надпись: первый этаж для скворцов, второй для воробьёв. Санька спозаранку со скворешницей вскарабкался на высокую берёзу, росшую в пробеле, и пристроил ее там, обеспечив новой квартирой птиц. Слезши с берёзы, Санька попутно напился сладкой берёзовки из бутылки, подвешенной на сломанный сучок этой берёзы.
Перед выездом в поле на пашню в это утра Василий Ефимович тщательно подмазывал телегу, в нос ему ударил яркий запах колёсной мази вперемешку с запахом прелой земли и с густым запахом свежих осиновых дров. В уши Василия навязчиво ползли надоедливые звуки орущих грачей, густо обсевших берёзы и ветлы. Грачи громко и хлопотливо перекликались меж собой, самки заботливо чинили прошлогодние гнезда, самцы, видимо, поджидали, кто из мужиков первым выедет в поле пахать, чтоб сопроводить его и там, в бороздах пашни, полакомиться червячками, поднабрать их в клюве для самок, чтоб подкормить их.
Как только Василий Ефимович, расхлебянив настежь ворота, выехал на своем Сером, запряжённом в телегу, из ворот на улицу, грачи еще сильнее заорали и, с шумом спорхнув с ветлы, полетели вслед, сопровождая Васильеву телегу, в которой, кроме него, на левой стороне сидел Ванька, а в самой телеге пять мешков семян овса, плуг, фальный хомут с постромками, а поверх всего борона. Вскоре повозка Савельевых завернула за угол и скрылась, въехав на Слободу. Доехав до дома Касаткиных, Ванька с интересом стал разглядывать раскрашенный красками дом, замысловато-затейливые и причудливые узоры резьбы наличников и карниза. Он с трудом прочитал надпись, вырезанную на карнизе: «Сей дом принадлежит жителю села Мотовилова, семьянину Ивану Максимовичу Касаткину». Выехав из села и миновав мельницу, они выехали в поле.
Поле встретило их чуть прохладным ветерком и пением жаворонка. Лошадь, отдохнувши после Масленицы и усиленно подкормленная перед пашней, поправилась боками, набралась силы и теперь весело шагала по дороге. Дорога сперва шла прямо, потом, изогнувшись излучиной, повернув вправо, пошла наизволок на подъёме в гору. Василий Ефимович догнал ехавшего тоже на пашню Семиона Селиванова:
– Мир дорогой! – громко поприветствовал Семиона Василий.
– Просим милости! – ответил Семион. Не желая обгонять, Василий завёл разговор с Семионом о земле, о времени. Потом Семион завёл свой длинный рассказ о дороге, о том, как с ним в дороге случилось однажды несчастье.
– Съезжали мы с возами сена с Соломенной Горы, – не торопясь начал он, – а в одном месте крутизна несусветная, а запряжка-то на лошади без шлеи. Мне бы надо в колесо палку вставить, а я этого не сделал, и воз попёр! Лошадь с горы побежала впрыть, а я не справлюсь с ней никак. Колесо подвернулось, и воз бух на бок, лошадь как-то вывернулась в хомуте, на ногах устояла, а, чую, захрапела: ее хомут стал душить, и вдруг оглобля хрясь от натуги пополам. Тут я и побегал, пометал икру-то! Страсть, что было! Такой беды не приведи Господи никому!
Во время Семионова рассказа Василий сочувственно ахал и, сочувствуя в беде, гмыкал, но он, по мнению Ваньки, не все расслышивал о подробностях рассказа. Но, не подавая вида, чтоб не обидеть старика, потрафляя ему, поддакивал Семиону. Хотя ветерок был и несильным, но некоторые слова, сказанные не очень-то громко, относились ветром в сторону, да еще и надоедливо звенящий прицепом плуг на телеге своим неугомонным звоном заглушал речь, поэтому-то издали Ваньке казалось, что Семион не говорит, а жвачку жует, и он был уверен, что отец от Семиона не все расслышивает, но из учтивости и уважения старшего, он поддакивал.
В отличие от исправности телеги, лошади и самого молодцеватого Василия, впереди его ехал престарелый Семион. На косматой его голове зимой и летом была нахлобучена лохматая шапка, комбинированно сшитая из разных шкурок: черной собаки, серого козлёнка и рыжего теленка. В зубах его всегда торчала спутница-трубка. Его тощая лошадёнка от плохой кормёжки и от кнута с набалдашником имела самый невзрачный вид. В общем-то не она ли была участницей того исторического, вошедшего в народный пересказ, разговора, лошади, телеги и саней. Кому из них тяжелее? Лошадь и телега везли Семиона, хозяина этой невзрачной животины и невзрачного инвентаря. Семион свою телегу на зиму не завозил во двор, она каждую зиму стояла сбоку его двора. Из-под снега к весне из-под обтающего сугроба на солнце поблескивали изрядно поржавевшие шины колёс. Свою телегу Семион называл учтиво и почётно «моя карета», и она заслужила этого хозяйского почтения. Ободья её колёс от старости искоробились и приняли слегка овальную форму, так что когда телега едет, хозяин в ней слегка покачивается, словно ребенок в зыбке. Сзади у телеги висит какая-то рвань-дерюга, а под телегой болтается с подсохшим в ней дегтем полупустая лагушка, но колеса, тоскуя о смазке, забавно и визгливо скрипели от недостаточности дегтя во втулках и на осях, а в перерыв скрипа шепеляво вели свой разговор. Если бы случайно довелось подслушать этот скрип и визг композитору, то он непременно бы написал музыку и назвал бы ее «Колёсная симфония». В глубине Семионовой телеги лежала кормилица – соха, поверх ее вверх кривыми деревянными зубьями – старушка-борона, а на борону нахлобучено сплетённое из соломы рассевное лукошко. В завершение художественности Семионовой повозки между зубьев бороны змеей извивается вечная спутница курящего хозяина, мочальная веревка. Она своим хранящим огонек концом, свесившись из задка телеги, причудливо болтаясь, испускала тонкую струю сизого дыма, придавая всему этому художественному зрелищу дымовой эффект. Сам хозяин, обладатель этой достопримечательной кареты, с гордым видом восседал на правой стороне, держа в левой руке вожжи для управления лошадью, а в правой кнут. Правя лошадью, Семион постоянно поддёргивал вожжами, смачно чмокая губами, понукал: «Но! Но!». Семион только для виду помахивал кнутом в воздухе, выводя им причудливые и замысловатые неуловимые взором фигурки. Лошадь привыкла к этому и, зная, что хозяин редко, когда применяет в дело кнут, тихо плелась по дороге. Но голосом Семион часто понукал свою пеганку: «Но! Но! Вот я тебя, ленивая!», – попыхивая дымом из трубки, он покрикивал на нее. Лошадь слегка прибавляет ходу, и колеса кареты быстрее начинают вертеться, отмеряя невидимые версты и стыком обода делая пометки в колее.
Пока ехали и отец разговаривал с Семионом, Ванька от нечего делать погрузился в размышления. Его внимание привлекла лошадиная запряжка: и кто только ее придумал! Проста, надёжна и художественна. Лошадь, телега, оглобли, дуга, хомут, седелка, уздечка и вожже в руках седока. А колокольчик – это ли не прелесть?! Подъезжая к оврагу Рыбакову, дорога, чуть свернув с жесткого берега долины, пошла по мягкому зыбучему торфяному мякишу. Семион ехал так вяло, словно вез на базар яйца, и не вынуждал свою лошадь к быстрому ходу. Василию страстно хотелось обогнать Семиона, но из уважения к старшему и из боязни, в народе ходит слушок, что Семион колдун, он не позволял себе этого сделать. Он смирился с тихой ездой, а до Баусихи-то еще далеко, всего не переслушать, да еще его удерживало от быстрой езды и то, как только Серый прибавляет ходу, в задке Васильевой телеги начинает назойливо бренчать плохо укреплённая доска, изводит его нервы, а Семион начинал свой новый рассказ о бедах. Как в поле во время подъёма пара мужика громом убило, свидетелям этой трагедии стоит памятник на большой дороге, до которой они сейчас доехали, как при нарезке земли (после революции) межевого убили, а потом он начала перечислять свои беды. Василию невольно пришлось только слушать, да сочувственно ахать, хмакать, да хмыкать. А Семион повествовал:
– Только было я тогда оперился, хозяйство наладил, вдруг оп – беда: из мазанки все подчистую выгребли, и году не прошло – пожар случился, все дозвания сгорело. Ты, Василий, наверное, чуть помнишь тот наш пожар, ты в ту пору еще без портков бегал. Пошёл я тогда ночью с фонарем на двор, лошади замесить, да видно по оплошности заронил, а ведь сам знаешь, у нас во дворах-то одна солома. Мне тот пожар хорошо запомнился: дом с двором дотла сгорел, и сам-то едва выкарабкался, лапотная веревка на ноге запуталась, я обо что-то спотыкнулся, упал, руку себе сожёг, вот и страдай век-то. Видно, чему быть того не минуешь! – жаловался Семион Василию.
– Вот это да! – с удивлением отозвался Василий, – неужели все это правда! – явно невпопад переспросил он.
– Чай, я не хвастать стану, – во всю ширь разглагольствовался Семион, – ведь за вранье я с тебя не деньги беру!
Под долготекучий разговор старших Ванька, углубившись в свои размышления, он, устремивши свой взор на дорогу, молча увлёкся его. Он потупившимся взором глядел на уползающую под телегу, утоптанную лошадиными копытами и обрамленную колеями ленту земли. Ему казалось, что лошадь стоит на одном месте и переминается с ноги на ногу, а дорога сама ползет под телегу. А что такое дорога сама по себе? Это шириной в сажень опаханная плугом с обеих сторон полоса земли, затравленные две бровки по бокам лошадиной тропы, две колеи, проделанные колёсами, два травянистых рубежка по обочинам – вот и вся дорога. А сколько в ней силы, значения и красоты?! Сколько по дороге прошло пешеходов, сколько по ней проехало телег: пустых, с сеном, с хлебом по матушке по дороге езжено-переезжено. Её колесят и взад, и вперед. А сколько в дороге произошло несчастий, бед и знакомств. В дороге парень, шествуя, случайно повстречался с девушкой и, познакомившись, навеки подружился с ней. В дороге мужик познакомился с хорошим человеком, в дороге он познал дружбу и взаимную помощь в случившейся беде, в дороге мужик узнал о хороших и плохих качествах своей кормилицы-лошади, в дороге у него сломалась ось, или вывернулась оглобля, или слетело с оси колесо. В дороге от плохой смазки заскрипело колесо и от чрезмерного нагрева чуть не загорелась ось. В дороге телега колесом угодила в выбоину, и воз свалился на бок, придав мужика немало горя, хлопот, возни и труда, чтобы воз снова поднять, поставить на колеса и продолжить путь. В дороге у мужика по недоглядку с телеги свалился мешок с зерном – опять мужику горе, а хозяйству его значительный урон. Проехав развилку дороги, где на столбе было кем-то написано «вправо на колодезь, влево на Баусиху», дорога пошла под уклон.
Василий, не выдержав, крикнул Семиону: «А ты понукай лошадь-то, а то мы так-то к Баусихе-то только к обеду приедем! Ты огрей лошадь-то хорошенько! Видимо, она спит на ходу-то!». Семион вместо ответа, вынув трубку изо рта, смачно сплюнул в сторону. И вправду, Семионова пеганка, слушая людской разговор, поводила ушами из стороны в сторону, плелась по дороге, медленно подаваясь вперед. Семион вынужденно хлобыснул кнутом забывшуюся кобылу. Пеганка внезапно дернула телегу рывком, от чего Семион неудержимо наклонился всем станом назад. Лошадь побежала впритруску, телега загромыхала, колеса еще пронзительнее заскрипели. Симфония звуков приняла новый оборот. Во время кратковременного бега Пеганка как-то хлюпко и судорожно затряслась всем телом, ее острые моклоки игриво запрыгали, дуга как-то забавно запрыгала, борона, стуча об соху, усиленно забренчала. Сбавив свой бег, Пеганка снова перешла на хлюпкий шаг, и в завершение всей музыки при ее беге из-под ее хвоста на дорогу повалился жидкий помет, с высвистом. Видимо, быстрый бег вконец растревожил содержимое ее внутренности. Долго ли, коротко ли они ехали, а наконец-то все же приехали в самый задний угол мотовиловской земли, к самым выселкам Баусихи. Расположившись станом в долу Шишколе, Василий и Семион приступили к пашне, благо загоны их были неподалеку.
– Сюда верст восемь будет! – провозгласил Семион.
– Это еще ладно, что баусянам самый-то угол отрезали, а то бы еще версты три пришлось бы ехать, – добавил он.
Земля – поле. Пашня, сев, начёвка
Василий Савельев, выпрягши Серого из телеги, сняв с лошади езжалый хомут, надев на него оральный хомут с постромками и вальком и зацепив плуг, он, перекрестившись, на выровнявшейся за зиму стерне своего загона пропахал взлохмаченную жнивой первую борозду. Ожидающие грачи густо обсели борозду, перелетая с места на место, по ней отыскивали и подбирали выпаханных из земли червей. На другом конце, на середине загона, вешкой стоял Ванька. Когда отец с плугом выехал на него, оглянувшись назад, проговорил:
– Ну, Серый, прямая ли у нас вышла с тобой борозда?
Борозда оказалась чуть выгнутой. В середине виднелась небольшая излучина, которую на обратном пути Василий исправил плугом. И пошла пахота. Серый, чувствуя в себе застойную силу, легко и задорно ушагивал по поникшей стерне, шурша по ней копытистыми ногами, а Василий, переполненный приливом чувства весны и неукротимого задора крестьянина, удовлетворённо и весело шагал за плугом, держась за его угнутые к низу поручни с деревянными накладками для удобства ухватки руками. На третьей борозде Василий разгорячился, спина начала липко потеть. Он, раздевшись, скинул в себя пиджак, остался в одной черной сатиновой рубахе-косоворотке. Во время пашни у Василия часто съезжал на лоб широкий с пружинкой и с грязной от пота кружовинкой посредине околыша картуз. Он неуловимо быстро поправлял его рукой и снова продолжал ушагивать за плугом. Наблюдая глазами, как лемех, подрезая очередную полосу целины, слегка приподнимая пласт, передаёт его на отвал, а отвал, ставя пласт на ребро, потом переворачивает его вверх изнанкой.
Василий время от времени оглядывался назад: за ним чуть ли не по пятам в важной позе хозяином расхаживал, отливая на солнце вороненой сталью оперения, грач, считая, видимо, что эта борозда пропахана именно для него. Проехав раз десять, насладившись началом пашни и несколько устав с непривычки, Василий крикнул:
– Ваня, съезди-ка разка два, а я отдохну.
Ванька вприпрыжку подбежал к плугу. Вцепившись в поручни, крикнул на Серого «Но!» и бойко зашагал за плугом. В его кудрявых волосах заиграл ветерок, затылок припекало тёплое весеннее солнышко, в лапти посыпались влажные комочки земли. Пока Ванька объезжал три круга, Василий подошёл к Семионову загону, ожидая, пока Семион подъедет с того конца, он вгляделся вдаль и только теперь заметил, кое-где под крутыми берегами дола Шишкола притаился грязноватый снег, обречённо ждя своего последнего дня. Василий перевел свой взор на приближающегося со своей скрипучей сохой Семиона. Его лошадь, жерёбая кобыла, натужно надрываясь, всем телом и учащенно дыша, едва тянула тяжелённую соху. Стая хлопотливых грачей сопровождала его. В такт шагов Семиона у него в кармане звенело кресало о кремень. Подъехав к концу и повернув лошадь головой обратно в дальний конец загона, Семион, вонзив соху в размягчённую землю и, сказав лошади «тпру!», проговорил:
– Вот и закурить можно!
Подходя к Василию, он на ходу стал шарить по карманам штанов и кафтана в поисках махорки-самосада. Он вывернул наизнанку два кармана, стал набивать трубку с трудом набранным табаком.
– Едва набрал на закурку, хотя у меня в телеге целая сумочка с табаком-то, – как бы оправдываясь перед Василием, проговорил Семион. – Закуривай, Василий Ефимыч, если хочешь, я дойду до телеги-то, угощу, если желаешь.
– Нет, спасибо, не занимаюсь этим, – поблагодарил за угощение Василий.
– Я ведь знаю, что ты не куришь, – спохватился Семион, высекая искру из кремня на фитиль (веревка его давно погасла) для прикуривания.
– Ты вот так с сохой-то и не расстаёшься, Семион Трофимыч, – обратился Василий к Семиону.
– Я к ней привык, больно гоже она, лучше, чем плугом землю-то пашет, землю рыхлит и не переворачивает пласта ни как плуг. У матушки-сошки золотые рожки! – пословицей хваление сохи заключил Семион.
– Ну а как, дядя Семион, по-твоему, нынче год-то урожайным будет, ай нет? – с любопытством поинтересовался Василий как у старшего и наблюдательного Семиона.
– Да оно как сказать, – неторопливо, с расстановочкой, удушливо покашливая, отвечал ему Семион. – По моим приметам, должен быть урожайным. Осенью я наблюдал, лист с деревьев падал на землю орлом, а не решкой, значит, к добру. Да еще как весна покажет. Май если холодный будет, значит, и год будет хлебородный!
– У вас в скольких местах загоны-то? – спросил Семион Василия.
– В восьми. Наверное, и у вас так же? – ответил с вопросом Василий.
– Ну да, так. И как ты думаешь свой посев распределить? – поинтересовался Семион.
– Здесь вот, в отделённости от села, думаю, два загона посеять чистым овсом на корм лошади, два загона вико-овсяной смесью на корм скотине, один загон оставлю под дикушу, загон на одворице засею просом, два загона около Рыбакова засажу картошкой, а на усадьбе, как и все, посею конопли на конопляное масло и на куделю для тканья семье на портянки.
Побеседовав с Семионом, Василий снова взялся за плуг.
– Давай-ка я попашу, а ты обед заваривай, – сказал он Ваньке. Ванька принялся за приготовление обеда: из задка телеги он достал картошку, начистил ее, достал из кошеля кусок свинины и другие продукты, хлопотливо уложенные матерью в кошеле. Положив, что нужно, в чугунок, Ванька пошёл к водотёку за водой, почти из-под его ног выскочил суслик, испугав Ваньку врасплох, что у него на голове волосы дыбом встали. Принесши воды, Ванька принялся за разжигание костра из дров, привезённых из дома. Он исчиркал полкоробка спичек и едва разжёг. Поднявшийся внезапно ветер гасил у него спички и лучинки, которые он долго и безрезультатно старался поджечь. Наконец, костёр разожжён, буйные на ветру огненные языки пламени обхватисто облизывали черно-просаленные бока чугунка. Вскоре вода в чугунке закипела, со дна начало бурлить, гоняя по чугунку картошку, пшено и куски свинины. Неустойчивая погода в конце апреля, то солнышко, то ветер, то дождь, то снег полетит. Вот и сейчас: с утра было тепло, ласково пригревало солнце, а к обеду вдруг подул холодный ветер, с восточной стороны появилась огромная туча, и чем она ближе надвигалась, тем ощутимее обдавало холодом, а вскоре полнеба заволокло, на землю полетели редкие снежинки. Василий, остановив лошадь, взяв пиджак с телеги, оделся потеплее. Он снова пошёл к плугу, из-под ног у него вспорхнул жаворонок. Он хотел с песней взлететь вверх, но сильный ветер не позволил ему это сделать. Он с высоты не больше десяти саженей стремительно ринулся на землю, спрятавшись от ветра в комьястой пашне. Не прошло и пяти минут, как сплошной тучей заволокло уже все небо, словно гигантское одеяло растянулось над миром. Стало темно, пошёл сверху снег, не снег, а посыпалась за землю какая-то крупа, а там и снег повалил хлопьями. Пахари, угнув головы в сторону, прятали лица от колкого холода, прилипающих к коже снежинок, держа поручни голыми руками, пальцы от холода коченели.
Василий пожалел, что не предусмотрел из дома прихватить варежки. Он одной рукой придерживая плуг, другую всунул в за пазуху, грея её от облепившего голую руку холодным снегом. Становилось невыносимо холодно, морозом обдавало все тело. Озноб доходил до самого сердца. Семиону доставалось еще трудней: сквозь дыры в его ветхом кафтанишке ветер немилосердно прощупывал его тощее тело. Стужа холодной змеей обвила его всего, и как огненным обручем стянула до самых костей. Голые руки закоченели. А снежная кутерьма не прекращалась. Невидимая сила потоки миллионов снежинок круговоротом увлекает, то вправо, то влево, отчего снежинки мельтешатся, как комары в толчее вперекрест. Наигравшись, натешившись, наметя на земле тонкий слой рыхлого снега, ветер вдруг стих. Кутерьма внезапно прекратилась. Туча унеслась на запад, посветлело, из-за края уходящей тучи выглянуло солнышко, как бы с намерением досмотреть, и ужаснуться: «А ну-ка, что тут наделано без меня, пока я невольно скрывалось за этой злодейкой-тучей!» И как бы чтоб успокоить все живое на земле, милосердно добавило: «Сейчас я весь этот снежок расплавлю!» И верно, за десять минут на земле тут не осталось ни одной снежинки. Ласковые, тёплые, солнечные лучи снова оживили всю природу: жаворонки весело напевая, взлетев, устремились ввысь, трепеща насквозь просвечиваемыми солнечными лучами крылышками. Пахари воспрянули духом, руки, отогревшись, крепко держали за поручни плуг. Из-под лемеха и отвала непрерывным потоком полз взвороченный пласт, отсыревшая от снега земля назойливо стала прилипать к отвалу плуга. На последнем заезде Василий на другом конце загона, переведя дух, взглянул вдаль поля. На пригорке где-то вдалеке неведомый пахарь на повороте вынул из земли плуг. Яркий солнечный луч, отражённый отполированным отвалом, как зеркалом, ослепительно резанул ему в глаза.
– Ну как, обед готов? – крикнул отец Ваньке.
– Готов, готов! – бойко ответил Ванька. – Только я позабыл посолить, сейчас посолю. Суп получился вкусным!
Василий Серого подвёл к телеге. Стуча груздилами о лукошко, в котором для него насыпан овес, Серый, приусталый на пашне, дружно принялся за еду. Усаживаясь к чугунку с супом и к разостланному на земле столешнику около телеги, Василий сказал:
– Ну вот, первый загон вспахан, после обеда примемся за сев.
Будучи человеком набожным и отчасти суеверным, он предусмотрительно прихватил из дома благовещенскую просвиру – символ возрождения и залога урожая. Достав из кошеля просвирку, Василий, сотворив крестное знамение, разломил ее пополам: одну часть с молитвой он положил себе в рот, вторую отдал Ваньке. Ванька, следуя примеру отца, повторил то же самое, перекрестясь благоговейно, съел свою часть просвиры. Обед был вкусным. Свежий воздух, холодок и полевой живительный ветерок создали отличный аппетит. Наваристый, со свининой суп своей теплотой создал во внутренностях Василия и Ваньки приятное насыщение, разогрев все тело. Закончив обед и свернув столешник, убрав хлеб, ложки и все остальное в кошель, Василий, гася в себе сытную отрыжку, проговорил сыну:
– Я сейчас рассевать овес стану, а ты зацепляй борону – боронить будешь.
Насыпав полное лукошко овса, Василий повесил его себе через плечо на спину и приступил к севу. Широко перекрестившись, он пошёл вдоль межи, раскидывая из горсти зерно. Развалисто и твердо ушагивая по вязкой пашне, он размашисто махал правой рукой, ровно, как дождем, усеивал землю перед собой. Сухие зерна овса, освобождаясь из горсти Василия, попадая и скользя о край лукошка, в такт шагов издавали звук «увик». Василий с большим искусством рассеивал зерно, не допуская ни недосева, ни пересева – вдостаток обсевал межу. Ванька, зацепив к вальку постромок, борону, поехал следом за отцом. Борона всеми тридцатью шестью своими зубьями, разрыхляя неровности пашни, заваливала зерна овса, хороня их во влажной почве, в плодородном слое земли, которая через три месяца возродит урожай, вознаградив сеятеля обильным зерном за его вложенный труд.
К вечеру этого дня в расположение других загонов, предназначенных для пашни и сева, Савельевы переехали в Медвежий дол. Сюда же, как по уговору, съехались Федотов Иван с сыном Санькой, Крестьянинов Федор с Панькой, Степан Тарасов на паре лошадей и с помощницей себе, дочерью, вдовой Марьей, Трынков Иван и после всех, под самый вечер, приплюхал Семион Селиванов.
– Бог помочь! – крикнул Семион, подъезжая к стану пахарей.
– Бог спасет! – за всех как старший ответил ему Иван Федотов.
– Ну, как пашня? – осведомился Семион.
– Не пашня, а малина, – отозвался Иван Трынков, паша, подъезжал с плугом с дальнего конца своего загона.
– Пашня «Слава Богу», земля мягкая, как пух, пахать одна любота, – высказал свое мнение о пашне и Василий.
– Она давеча вон какая полепила, земля размякла, а весна-то нынче, видать, дружная будет, – заметил Иван Федотов.
– А по чему ты угадываешь? – усомнился Трынков.
– Да потому, что сосульки у крыш короткие были, а это первая примета дружной весны, а долгие сосульки явный признак весны затяжной. Моя Дарья все эти приметы хорошо изучила, а что касаемо сева и урожая, так я вот что вам скажу: паши глубже, сеять начинай тут же, а когда сеешь думай, как пожать! – с поучением закончил свою речь Иван.
– Ты что, как пашешь, в развал, надо со средины начинать-то, а не с краев, и пахать в свал, – заметил Федотов Трынкову.
– А я по копкам начал, на средине на том конце (вместо вешки) у меня постоять некому, вот и пашу вразвал. Я думал, овес-то все равно взойдет. Что посеешь, то и пожнёшь! – пословицей закончил речь в свое оправдание Трынков.
– Ну гляди, тебе виднее, – отступился от него Федотов.
Между тем, день клонился к концу. Солнце заметно подходило к горизонту, оно уже стало не столь тёплым, как среди дня, хотя на небе не было ни одного облачка. Мужики, собравшись в одну кучу на отдых и общий перекур, стали спорить меж собою о том, сколько же сейчас время. Усиленнее всех спорил Иван Федотов, он, смерив на земле свою тень лаптями, оспаривал, что намерял восемь лаптей, значит, восемь часов вечера. С ним упорно не соглашался Степан Тарасов, говоря, что тень от роста человека зависит, и лапти разного размера бывают.
– А вы не спорьте! – ввязался Иван Трынков. – Я из дома захватил сюда часы-ходики, так что сейчас я их подвешу к приподнятой оглобле телеги, и время будем узнавать по часам без спору.
Трынков вытащил из кошеля ходики и стал хлопотливо подвешивать их к оглобле, задев подвеской за гвоздь, предусмотрительно вбитый в торец оглобли.
– Так-то оно так, а все равно, для первости мы не знаем, на скольки часах установить стрелки-то, – справедливо заметил Федор.
– Время на первый случай поставим согласно определению Федотова, он же сказал, что сейчас «восемь», так пускай и будет, – высказался Трынков, установив стрелки на восьми часах и поднимая вверх гирьку часов.
– У меня эти часы хорошо ходют, они старинного закала, их мне подарил мой дед, а ему они достались в наследство тоже от деда, а главное, они точно ходят и ни разу не ошибались, я их сверял с церковными, которые висят у меня в сторожке, – расхваливая добротность своих часов, Трынков продолжал, – В поле на пашне и в лесу на сенокосе с часами любота! Поглядел на них и стрелки, точное время без обмана показывают. Особенно в поле в пасмурный день без часов плохо: солнышка нет, тень лаптем не измеришь и время не определишь, а часы тикают да тикают, и время безошибочно показывают. Без часов совсем плохо, может получиться так, к примеру сказать, с обедом: или опоздаешь, или расположишься на обед не вовремя, вместо двенадцати часов начнёшь разобедывать часов в десять, получится от людей стыдно и куры засмеют, – закончил свою речь Трынков.