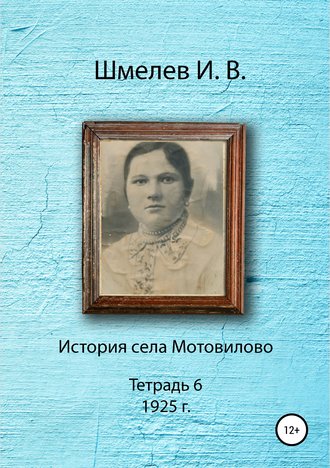
Иван Васильевич Шмелев
История села Мотовилово. Тетрадь 6 (1925 г.)
Оглоблины: Кузьма и Татьяна
Кузьма Дорофеевич Оглоблин в сельском совете сначала служил писарем, переписывал то, что дадут. Потом допятился до должности секретаря. С делами своими он справлялся хорошо, а в свободное от дел время, особенно в отсутствие председателя, он балагурил с мужиками, которые в частом бываньи посещали совет. Он с ними за компанию начужбинку покуривал, занятные анекдоты рассказывал, от дремоты газетки почитывал, которые два раза в неделю приносил почтальон из Чернухи. Увлекался Кузьма также и книжонками, читал их запоями. Имел намерение писателем заделаться. С этой целью он иногда в постель брал тетрадку и огрызок карандаша, записывал хорошие мысли, возникшие в голове. Во время постельных размышлений выписывал в тетрадку подходящие выдержки из книг.
Однажды из Чернухи на мотовиловский адресат пришло доплатное письмо, и долго кумекали, кому же оно адресовано. На конверте было написано «получить Кобылину (но это не точно)» – гласила приписка в скобках. За разгадку взялся сам Оглоблин. «Так это же мне», – когда он пристально вгляделся в адрес отправителя. Письмо было отправлено из Астрахани дальним родственником Кузьмы, который, видимо, забыл его фамилию. Вот уж в действительности «лошадиная» фамилия.
Еще в далеком детстве оставили маленького Кузю одного летом на лужайке, постелив под него пеленку, а для забавы поставили ему горшочек с кашей. Подкралась к ребенку курица, кашу всю склевала и глаз у него выклюнула. Закричал Кузя, не выстошный голос всполошил малолетних нянек, которые курицу-то отогнали, а глаз у Кузи все же остался наполовину незрячим. Остался Кузьма на всю жизнь кривым. Из-за этого его на войну, хотя и брали, но вскорости забраковали и отослали домой. Плюс к тому, он с детства недослышивает – крепок на ухо.
В этот день председатель совета по причине болезни в совет на службу не явился. Из начальства за столом сидел один Кузьма. Он вершил письменные дела, которые касались жителей своего села, а также сел Вторусского и Верижек.
Облокотившись о стол, уткнув голову на руки, он пальцами ерошил волосы, а потом, устало потянувшись всем телом, обозрев присутствующих мужиков, извещающее проговорил:
– Эх, что-то и дремота меня берет, мужики, работа никак на ум нейдёт и руки одрябли. Нет ли у кого бумажки, закурить из вашего табачку, а то у меня спичек нет, – закомуристо попросил закурить у мужиков он. Присутствующий тут и куря, пускающий дым, как из заводской трубы, Яков, с удовольствием предложил ему:
– На, закуривай, для хорошего человека не жалко.
– У тебя какой табачок-то? – без надобности поинтересовался Кузьма.
– «Мужичек», сейчас только в лавке купил осьмушку, – нарочно соврал Яков, – а ты не спрашивай, какой табак-то, закуривай и вся недолга. А взамен дай мне для курева газетку. Ведь всем известно, что ты вечный стрелок, – разоблачающее устыдил перед народом и опозорил сторож секретаря.
Вскорости в совет наехал председатель Чернухинского ВИКа, Небоська. Узнав, что Председатель Совета болен и положен в больницу, Небоська сказал Оглоблину:
– Тебе, Кузьма Дорофеевич, временно придётся взять на себя обязанность исполнять и должность председателя. Я думаю, ты с этим справишься?
– Неужели, да не справлюсь? – обрадовано отозвался Кузьма. – Все дело, уладим?
Небоська, сев на велосипед, уехал, а едя по улице Мотовилова, он обеспокоенно думал об Оглоблине, как бы чего не учудил. Он в задумчивости стал с интересом наблюдать за непрерывным движением перед глазами покрышки колеса. Его взор порой улавливал подробности рисунка протектора шины. В это время в глаз ему попала мушка, он зажмурился от боли, потеряв управление, наехал колесом на камень. Колесо подвернулось, и он рухнул на землю. Вымигав из глаза мушку, Небоська, осмотревшись кругом, сконфуженно стал рукой разглаживать ушибленное место, отряхиваться, вкрадчиво наблюдая за приближающимся к нему шедшего по дороге мужика.
– Андрей Андреич, же, как ты упал! – как новость, известил мужик.
– Да, чёрт возьми, летел как ангел, а упал как черт! – отшутился Небоська.
А Оглоблин, приняв на себя председательствование, тут же рьяно и со всей прилежностью принялся за дело. Сначала он решил ознакомиться с директивами свыше, которые касались только председателя и лежали в столе под особым ключом. Председательских «дел» была целая папка. С трудом читая и не совсем понимая содержание некоторых документов, он, тем не менее, старался вникнуть в суть деловых бумаг. К обеденной поре он так уморился и проголодался, что, совсем обессилев, решил обедать домой не ходить, хотя он в этот день, поспешив на службу, ушёл, не позавтракавши. С утра во рту у него не было маковой росинки. У него в голове мелькнула мысль, послать домой жене «записку», переслать ее с дежурным посыльным, что Кузьма, не колеблясь, и сделал. Оторвав клочок грязноватой бумаги, он от взволнованности, властно, загогулисто и безграмотно вывел на нем: «Дорогая Татьяна Митрофановна! С подателем сей записки прошу прислать мне в совет пирогов или ватружак. Сам я нынча домой обедать не прийду, силно за делами занит, мне ни до-сук Председатель селсавета Кузьма Оглоблин». Чтоб придать этой записке вид официального документа и так, для пущей важности, он, достав печать из ящика стола, помусолив ее, громко пришлёпнул к бумажке рядом с росписью. Подавая дежурному посыльному по совету, бойкому парню-подростку из Шегалева, эту вчетверо сложенную бумажку, Кузьма сказал:
– На, отнеси вот это моей бабе, жене то есть, только не развертывай и не читай.
– Ладно, – сказал парень и вприпрыжку ускакал по назначению.
Парень, помня наказ, и не думал читать, что в записке сказано. Но Митька Кочеврягин, узнав, что парень бежит с поручением, перехватив его, заинтересовался и прочитал записку, узнав о ее содержании.
Долго потом Митька разыгрывал Кузьму. Народно он рассказывал анекдот мужикам и бабам о той записке, для большего эффекта прибавляя словесные дополнения к ней от себя лично.
Вечером, придя домой, Кузьма властно, но с некоторым снисхождением, обрушился на жену.
– Ты что мне обед-то не прислала, ведь получала записку?
– Ну получала! А чего я тебе прислала бы? Сам знаешь, что нечего. Корова доить перестала и не знай, когда отелится.
– Я ведь сейчас за председателя, и некогда мне домой обедать ходить.
– А мне что ж, ты – председатель, вон, бери хлеб и ешь. А сперва умойся, что у тебя нос-то грязный, словно с курами ты клевал.
– Как с курами?
– Так, погляди-ка в зеркало: на кончике-то носа грязь.
Он, взглянув в засиженный мухами осколок зеркала, прибитый на стене большими гвоздями, сконфуженно проговорил:
– Эх, и правда! – и, плюнув на ладонь, оттёр грязь с носа.
Умывальника у них в доме нет, вся семья поочерёдно умывается над чугуном в чулане, сама же хозяйка-стряпуха редко, когда прибегает к чистоплотности. Во время стряпни руки мыть некогда.
– Ты хоть налей мне похлёбки, – попросил Кузьма.
– Открывай печь, вынимай чугун и сам наливай, сколько тебе надо, – хладнокровно и не чувствуя за собой подчинённости, ответила ему жена.
Кузьма, налив в почерневшую от старости деревянную чашку похлёбки, стал запоздало обедать.
– Ну и похлёбка, жидка, набузырил я одной воды. Всю Москву видно! – с явным недовольством провозгласил Кузьма.
– А ты мяса-то приготовил? Сам знаешь, оно у нас в диковинку, раз в год, на Пасху. А молоко-то в Троицу.
– Татьян, ты вот что: я вот сниму штаны, ты их сначала выстирай, а потом наложи заплату. Видимо, на самой ж… протерлись, – переведя разговор с темы о пище на другое и подмигивая косым глазом, добродушно попросил он жену.
– А ты бы поменьше там в совете-то по стульям задом-то елозил, поберег бы последние штаны.
Бедновато живет в своем хозяйстве Кузьма. Изба пристарело покосилась на печной бок, крыша прохудилась, в дождливое время с потолка покапывает, матица подгнила, пришлось подставку подпереть под нее, а пятистенные струбы, когда-то приготовленные для перестройки, гниют. На счёт струб Кузьма частенько напоминали хозяйственные мужики, упрекая его в халатности. Однажды даже Яков Забродин сделал замечание насчёт чтения книг и струбов:
– Ты, Дорофеич, какой-то бездумный! Забил себе голову пустяками, будет ли у тебя в хозяйстве спориться! Такие струбы на задах у озера догнивают, а ты с постройкой не чешешься, – сокрушённо покачивая головой, укорял Кузьму Яков.
– Это не твоя забота, а моя, о своем хозяйстве беспокоиться. Я как-нибудь и сам справлюсь, без подсказывателей. – невыдержанно и досадливо сгрубил на замечания Кузьма. – Я хотя и плохонький, а в своем доме хозяин.
Кузьма, служа в совете, норовит, как бы за казенный счет проехать: где подвыпить, где на чужбинку закурить, где не за свой счет и пообедать. И не поэтому ли в хозяйстве у него не только не процветает, а наоборот, все «цветёт» и приходит в полный упадок, двор раскрытый, крыльца у дома нет, и все хуже и хуже. В разговоре с мужиками на хозяйственные темы Кузьма же удивляется, что за диво! – и работаем мы с Татьяной, как люди: летом сенокосим и жнём, не покладая рук до упаду, и ничто у нас не спорится, как в провальную яму все у нас девается. Приходится только диву даваться! На это ему мужики притаённо и скромно замечали: «Поменьше тебе надо книжонками увлекаться!»
– Я уж не виноват, что у меня в доме хлеба нет ни корки, дров ни полена, – оправдывался Кузьма.
Частенько приходится Кузьме, пришедши из совета домой на обед, довольствоваться одним хлебом с водой, корова-то не доится, но он не взыскателен. Иногда он жалобно говаривал жене:
– С голоду живот к спине подвело, я что-то заболел, – и валился на самодельную, с точеными ножками, кровать, стоящую взаду у двери в кутием углу. На кровати вместо постели валялось разное тряпье и две грязные, затасканные подушки, от которых воняло детской мочой и прочей дрянью.
– Чем это ты заболел, что у тебя болит? – вкрадчиво, с недоверием поинтересовалась жена.
– Не знаю, во всем теле ломота.
– Может быть, за фельдшером послать? – участливо предложила Татьяна.
– Нет, не ходи, никакой фельдшер не вылечит, – уткнувшись в подушку, пробурчал Кузьма. – Одна только ты можешь вылечить.
– А чем?
– Приляг со мной на постель, я тебе на ухо шепну.
– Вот ищо чего выдумал! – Поняв намерение мужа, забрюзжала она на него. – Ищо чего не знаешь ли?
– Нет, не знаю. Живот на живот, и все подживёт.
Делать нечего, пришлось Татьяне прилечь. Но, воспользовавшись подходящим случаем, начала, жалуясь, напевать ему в ухо:
– Глазыньки бы мои не глядели на все это. В амбаре ни зерна, на дворе дров ни палки, а ему и горя мало! Только бы книжки, да кровать, а откуда бы все бралось. Все глазыньки на людей прозавидовала. Люди живут как люди, а мы бьемся, как рыба об лед. Теленок последнюю юбку у меня изжевал, пришлось последний праздничный сарафан по будням заносить. Весь ребятишки его обмызгали, в праздник выйти на люди не в чем будет. Стыдовище. Куделю последнюю испряла, ребятишкам на портки поткать не из чего. И на тебе рубаха грязная, через коленку не перегнешь. День ото дня все хуже и хуже, а тебе и горюшка мало. Сплел бы хоть корзинку, картошку помыть не в чем. Детей бы пожалел, а не меня!
Не унимаясь, укоряла Татьяна своего Кузьму, осой нажуживая ему в уши. Услышав напоминание о детях, Кузьма не вытерпел, во все горло грозно и предупредительно гаркнул на жену:
– Перестань! Под горячую руку ударить могу!
– Бей! Мне уж все равно! Ну и мужинек напхался на мою-то шею, таких не приведи Господи! Ведь у меня грудной ребенок, а ты… Ну запомни! Этот последний, больше тебе не дам!
– Ты давно зарекаешься, – смякнув и улыбаясь, проговорил Кузьма.
– Да что с тобой поделаешь, – снисходительно обмякнув и сбавляя свой гнев, промолвила Татьяна, – ведь ты разжалуешься, уговоришь.
– Эх ты, головушка буйная! Разлюбезный мой муженёк!
И обиду, досаду, зло как рукой сняло. Они примирились, взаимно приблизились друг к другу, заворковали, как голуби, гревшиеся на крыше. Он ее нежно обнял и поцеловал в розовую щеку. Она, нежно прильнув к его груди, заулыбалась… Угодила Кузьме, жена Татьяна ему под стать: баба мясистая, объёмистая в грудях и не всегда заботлива, а даже с врожденной ленцой.
До замужества Татьяна жила с матерью в келье на Набережном порядке, и чтоб не засидеться в девках, семнадцати лет вышла замуж за Кузьму. Кузьма любил свою жену. С первых же дней всячески поважал и угождал ей, и зря не взыскивал с нее. Пойдёт ли она на озеро за водой с ведрами – не дождёшься, повстречает по пути бабу-подругу, откроется базар. Подойдёт к ним третья баба – открывается ярмарка. Был и такой случай, ушла Татьяна за водой и пропала. Кузьма, хватившись ее, пошёл было в розыски, а она стоит на дороге с подругой, целый уповод беседу разводит, с плеча на плечо коромысло с полными ведрами воды перемещает. Пожалелось Кузьме, вышел он из дома с табуреткой в руках.
– Это ты куда, Дорофеич, с табуреткой-то? – спросил его Иван Федотов.
– Да вон, моя баба ведра воды на коромысле несет, повстречалась с подругой, заговорилась, беседуют! Наверно, с час. Наверное, устала, так вот, я ей сиденье несу, пусть сядет, – добродушно улыбаясь, пояснил Кузьма.
С первого же дня своего замужества Татьяна забеременела и почти каждый год ходила с выпуклым животом, по бабьи, с брюхом, наплодив своему Кузьме шестерых детей, как по заказу, слоёным пирогом: девку, парня, девку, парня. В итоге трех девок и троих парней. Живя за Кузьмой, зная, что он ее чрезмерно любит и вызнав его невзыскательность к ней как к жене, Татьяна не боялась его. Всякие оплошности с ее стороны оставались безнаказанными. Узнав об их семейной жизни, бабы говаривали, беседуя между собой:
– Кузьма-то у нее под левой пяткой! Она из него веревки вьет!
Беседуя на завалине, где сидели, собравшись, и мужики, и бабы, бабы, любопытствуя, спрашивали Татьяну:
– Как уж ты с ребятишками-то управляешься, у тебя их вон какая уйма?
– Так, кое-как, как и все, – уклончиво отзывалась Татьяна.
В начале их совместной и супружеской жизни Кузьма как-то осенью, простудившись, захворал, захирел, дня три не ел, ни пил, жизнь в нем совсем угасала. Любя Кузьму как мужа, Татьяна, подойдя к постели, где он лежал в болезненном состоянии, она его стынувшие ноги прислонила к своей обнаженной пылкой груди. Разогретая жениным телом, его кровь жизнетворно запульсировала по его жилам. Он оживленно шелохнулся, открыв глаза. На его лице появилась жизнерадостная улыбка. С этого дня он стал выздоравливать, а вскорости и совсем оздоровел. Но Татьяна, любя его, долго и частенько с досадой упрекала его за хилость.
Вскоре после выздоровления Кузьма почувствовал во всем своем теле прилив силы и способности к жизни во всех ее проявлениях. Однажды ночью, ложась спать, он предложил жене:
– А ты бы, Татьян, сняла исподнюю-то юбку, огонь-то загасить, что ли? – просил он перед тем, как лечь с ней рядом.
– Задувай! Я легла, – отозвалась она.
И теперь было бы у них детей не шестеро, а больше. Первенького ребенка, девочку, она заспала, когда ее Кузьма был на войне. Спать она с молодости увалиста: груди объёмисто-большие. С самого вечера завалилась она в постель, а чтобы ребенок ночью не плакал и не беспокоил ее, она вывалила из прорехи рубашки ему обе груди, а саму сном так приварило, что и не учуяла, как, привалившись к младенцу, невольно задушила его. А со вторым ребенком – мальчиком, тоже получилось несчастье. Как-то стряпала она в чулане, а он, державшись ей за подол, хныкал и мешал ей орудовать ухватом и кочергой. По нечаянности пырнула она ухватом сзади неотступно тянувшегося за ней ребенка, он упал и угодил в чугун с крутым кипятком. Взвизгнул мальчик, вскрикнула в безумстве мать, но было поздно: ребенок, обварившись, через час умер. Придав незабываемую скорбь матери. Поэтому-то вот сегодня, сидя на завалине и беседуя с бабами, Татьяна, невольно вспомнив о несчастьях в молодости, высказалась перед бабами:
– Да, детки и радости, дети и горе. И не почаешь, где и чем набедокурят, что едва очухаешься. Хотя я им зря-то и не дую в ж…ы-то, но наказывать их приходится не кнутом, а стыдом. Больше словами, а уж если слов не понимают, прибью. У меня знай порядок.
Кузьма же по-своему относился к своим детям, зря не бил их. Они поэтому льнули к нему, как обезьяны не дереве, висли на нем.
Но однажды, не выдержав озорства детей, Кузьма, рассердившись, раскричался, унимая их.
– Ты что это расшумелся, как холодный самовар! – шутливо стала унимать мужа Татьяна.
– С ними холодный закипишь, с ними никакого вздыху нет, им дай то, дай другое, им только дай поблажку, так они на голову сядут, – раздраженно укорял он детей. – Я погреб рою, а Петька пристал ногами швырять комья глины обратно в яму. Я его словами хотел унять, а он не понимает. Я его урезониваю, а он мне назло. Пришлось вылезти, да вложить ему за упрямство-то. Он заорал, словно его режут, а потом принялся выть и ныл не меньше часу, мне его нытье надоело, вот я и решил с досады вылезти из ямы-то, перекурить.
Вышел Кузьма из избы на улицу, а Петька все еще продолжал выть.
– А ты не вой, перестань выть-то, ведь не хочется выть-то, а все воешь. Слушать-то как надоело. Не вой, а то прибавлю на бедность-то! – пообещал отец Петьке, а он, продолжая слёзно плакать, едва выговорил:
– Ме-е-ня избили.
– Кто тебя избил?
– Вон, тот парнишка! – размазывая слезы впомесь с соплями по лицу, проревел Петька.
– Ну, погоди, я ему задам, пымаю и уши нарву!
Ребятишки, подслушивая разговор и услышав об ушах, перепугано бросились бежать как горох, врассыпную, только голые пятки засверкали.
– Дети заполоскали нас, совсем затуркали! – жаловалась Татьяна бабам.
– А чем уж ты их кормишь, ведь у тебя их вон какая орава, им немало надо! – поинтересовалась Дарья.
– Заняли, вон, у Савельева пуд ржи, смололи, из муки вполовик с отрубями и высевками сгоношу тесто, лепешек сваландаю, напеку, они и едят всухую, молока-то у нас заводу нету, а в голодные-то годы как жили – лебеду ели, да не умерли! Вот съедим этот пуд хлеба, там не знай, что будет.
– А корова-то у вас доит или нету? – поинтересовалась у Татьяны Стефанида Батманова.
– Вот и горе-то, не доит. Хотя мы ее по-знате купили, а доила по-малу, а сейчас и совсем перестала.
– А у кого вы ее купили?
– Вон, у Федотовых.
– Ведь она у них стареть стала, из-за этого они ее и продали. Откуда ждать от нее большого молока, корова пошла на издой, – полушепотом проговорила Стефанида, чтоб не услышала Дарья.
– А я думала, из-за кринки. Грешила на тётю Дарью, уж не с заворожками ли она тогда мне подала традиционную кринку, не горлышком, а дном, вот и сидим без молока. Я наслышалась, что они ее больно жалели.
– Тетя Стефанида, ты случайно не знаешь, корова-то у нас не телиться ли хочет? Как ни погляжу, у нее вроде вымя растёт и хвост на бок, – по секрету спросила Татьяна у Стефаниды.
– Нет, это она быка просит! – не обрадовав Татьяну, ей объяснила Стефанида.
– Или жить мы не умеем, или жить экономно не научились, – вновь вклинилась Татьяна в общий разговор. – Деньги-то у нас никак не ведутся, везде нехватки, дыры заткнуть нечем.
– А вон сколько назатыкали! – не стерпел, чтобы шутейно не заметить, имея ввиду шестерых ребятишек у Татьяны.
– Это дело нехитрое, всяк сумеет и способен на это! – шуткой на шутку отозвалась Татьяна.
– Скорее всего вы не расчётливо живёте и к деньгам без скупости относитесь. Видно, покупаете все, что на глаза попадёт. Деньги тратите на всякую пустяковину, а ведь деньги-то так – взял из кошелька копейку, ее уж нет там, жди, когда на ее место другая устрянет. Так что с деньгами обращаться надо умеючи, расходовать их супербережно! – назидательно высказался о деньгах Иван Федотов.
– А сколько твой-то мужик жалованья-то получает? – с интересом осведомилась Любовь Михайловна.
– Уж какой там жалованье, горе, а не деньги, двадцать рублей на нашу-то семью, – с недовольством высказалась Татьяна.
– Так это же почти корова! – возразила Савельева.
– Корова ли, не корова, а у нас в дому гроша ломаного нету, не водятся деньги у нас и на поди. Я уж в шутку говорила своему Кузьме, давай, мол, для счастья карман тебе нутряной пришью, а он смеется: «Все деньги, бают, не заработаешь, от трудов, говорит, праведных не нажить палат каменных, а от тяжёлой работы не будешь богат, а будешь горбат!» Он ведь у меня знает, чего и сказать-то! Да и вообще-то на него за последнее время какая-то лень напала, ведь крыльца-то у нас совсем нет, по чурбашкам прыгаем, а ему и горя мало. Давно, говорит, собираюсь сени поправить, да все руки не доходят. Изо дня в день на службу ходит, все некогда, а в свободное от службы время день-деньской он палец об палец не ударит. Совсем обленился, и в конце концов его обуяла такая лень, что не хочется притронуться к любому делу. И дети им приучены к тому же.
– И как с таким мужиком, да с такой семьёй и жить-то? – удивленно высказалась Савельева.
– Гоже тебе с таким-то хозяйственным и заботливым, все у вас есть, так жить, как сыр в масле купаться, – с завистью и досадой возразила Татьяна. – И все равно мы сами по себе живем, свой очаг имеем, дома обедаем, в люди обедать не ходим. В шабры занимать нужды не ходим, своей хватает, да я горе-то завязала узелком в тряпочку и спрятала под печку, домовому на потеху, пускай играет, да потешается, – горделиво хвалясь, ерепенилась Татьяна перед бабами.
– А мужик-то у тебя пьет, что ли? – полюбопытствовала Дарья у Татьяны.
– Нет, он у меня непьющий, в рот даженьки не берет, разве только когда с похмелья выпьет стаканчик-другой, – шутливо и с загадками пояснила Татьяна. – Как ему не пить! Он сейчас председателем совета стал, его угощают.
На второй день председательствования Кузьмы в совет по своим важным делам пришёл Вторусский мужик, а Кузьмы на своем месте не оказалось. Он да в розыски – пришёл на дом. Его встретила заспанная, вскочившая с постели в захватанной, проносившейся дохуда на объемистых грудях с раздвоенным гузком баба. На вопрос, где Кузьма Дорофеич, она, позёвывая широко распахнутым ртом, лениво ответила:
– Ево дома нету! – и как бы оправдываясь перед незнакомцем, неуместно добавила:
– Я с часик подремала, и, услыхав, кто-то идёт, очнулась. Вот, одна с ребятишками воюю.
В зыбке беспокойно закряхтел, захныкал, завозился ребенок
– Он, наверное, мокрый, а то и совсем обвалился! – объяснила Татьяна пришельцу, который не спрашивал ее об этом.
Мужик, обозрев внутренность избы. Видит: на полу, на разостланной ватоле в повалку, кто куда ногами, спят полуголые ребятишки. Некоторые из них, задрав кверху свои голые жопенки.
– Вот беспорточная банда! – проговорил мужик и ушел.
В тот день вечером с работы из совета Кузьма пришёл пьяным. Видимо, его сегодня там «обмывали». Смотрит Татьяна, а ее Кузьма вламывается в дверь, едва на ногах держась.
– Татьян, Татьян, не ругайся, – пьяно бурчал Кузьма, – вроде и немного выпил, а совсем опьянел, отяжелел, – как бы оправдываясь перед женой, бормотал он.
– Ты попонятливей говори, а то бухтишь, сам черт не разберет, – оборвала его жена. – А с какой стати ты напоролся?! – начала грозный допрос Татьяна Кузьме.
– Я не виноват, меня напоили, – бесчувственно бормотал Кузьма.
– Я вот возьму скалку и начну ею тебя ухобачивать, и об твои бока ухват обломаю! – пообещала она ему, не в шутку рассердившись. – Захлебнуться бы тебе этой самогонкой, чтоб у тебя всю внутренность наизнанку выворотило! – недружелюбно пожелала жена мужу такую напасть.
Не обращая внимания на упреки и ворчание жены, Кузьма, не раздевавшись и не разувшись, брякнулся на кровать. С его ног на пол, отлипая от подмёток, падали ошметки затвердевшей грязи.
– Да разуйся, окаянная твоя душа, всю постель изъелозил и пол обваландал. Сатана! – обрушилась с новой руганью Татьяна на Кузьму, а он, как и не слыша ее угрозы, пьяно и без возмущения пробормотал:
– А ты, Татьян, отдохни, а то совсем захлопоталась!
И вот сейчас, отвечая на Дарьин вопрос, Татьяна осведомила баб: третий день, как он запьянствовал.
– Поглядела я на него, а рубаха на нем вся в блевотине, самогонкой да куревом, спрегару от него разит, как из нужника. Я рубаху-то сняла с него и давай ее в сени выкидывать, чтоб не разило. Еле отстирала. А уж это куренье его до чего мне надоело! Нет той минуты завёртывает и курит, всю избу прокоптил и спичек в дому не напасимо.
– А ты в молодости любила свово Кузьму, ай нет? – с елейной улыбкой на лице полюбопытствовала Устинья Демьянова у Татьяны.
– Сначала-то любила, а потом вроде и перестала, – уклончиво пояснила Татьяна. – Хотя и сейчас, какой бы он ни был, а все же он муж мне, и зря его в обиду не дам никому! – защитительно и резонно отрезала она.
И вдруг ни с того ни с сего Татьяна бухнула при всех:
– Эх, кто бы мне спину растереть нанялся! Близ недели, как ее у меня ломит. Видать, простыла, просквозило где-то!
– Татьян, зачем ты растиральщика-то себе ищешь? Чай, у тебя есть свой, – осуждающе и образумевающе заметила ей Дарья.
– Да он не умеет! – с наивностью ответила Татьяна.
– Как это не умеет? – удивилась Дарья. – А вон сколько ребятишков-то тебе натёр! – под общий смех с весёлой усмешкой возразила Дарья.
– На это всяк горазд, дурацкое дело, нехитрость, – слащаво улыбаясь, продолжала Татьяна, – а растереть боль не всяк сумет, тут надо умеючи, так растереть, чтоб кости трещали. А мой-то на это не способен, на это у него силёнки не хватает. Он не разотрёт, а, как муха крылом погладит, – охаивала своего мужа Татьяна.
Присутствующий тут Николай Смирнов сдержанно промолчал, но взял себе на заметку до подходящего разу. Давненько он задорился на Татьяну и дорывался того, чтоб к ней подъехать и соблазнить ее. Подходящий случай для этого Николаю подвернулся. Но об этом в другой раз, а теперь о том, как однажды Кузьма утром, собираясь в совет на службу, никак не мог отыскать свою шапку. Или сам ее куда засунул, или ребятишки куда ее запсотили, только пришлось ему обратиться к жене.
– Татьян, ты случайно не скажешь, куда моя шапку подевалась. Ищу и никак не найду. Ты не знаешь, где она?
– Знаю! – с ехидством и издевкой в голосе отозвалась она. – Я за водой на озеро ходила и ее вместо платка на голову надевала.
– Ты шутишь или издеваешься надо мной? Я тебя серьёзно спрашиваю, а она чепуху мелет, – обиделся он.
– Ты сам чепуху городишь! Ну кто, кроме тебя, твою шапку наденет? Где положил, там и ищи! А не чуешь, что она у тебя на голове, видать, совсем зачитался!







