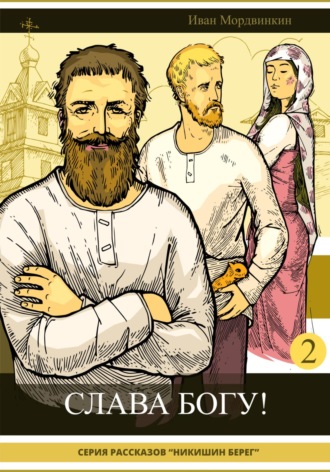
Иван Александрович Мордвинкин
Слава Богу!
Нужно было решаться, и он вынул из-за спины небольшой красивый пучок ярко-желтых и сиреневых петушков, незаметно от Федора собранных сегодня у реки.
– Я думал, тебе может… – он положил цветы возле нее, и Акулину обдало душистой пряной волной. Игнат сел на нижнюю ступеньку спиной к дому, украдкой взглянул на братову избу – никого нет – и вздохнул с облегчением. Балагурить как Федор и Варвара не получалось. Для этого Игнату нужно быть Федором, а Акулине – Варварой. И он продолжил «перехилять весы» сам собою, какой есть Игнатий:
– Я не хожу домой и на сеновале сплю из-за пыли – много было хлопот с сеном, а от этого чешется все. А в избе душно. Федор в озере окунулся – и все, а я не могу, – он сделал паузу, в надежде, что она что-нибудь скажет. Но она промолчала.
Над озером потянулась синеватая полоска дыма от праздничного костра на том берегу, а поверх нее легли звенящие и волнующие голоса девичьей песни, которая так же полетела над водою, и в уютную вечернюю мягкость вошло что-то одновременно грустное и обнадеживающее, от чего хотелось жить и любить.
Игнатий снова протяжно вздохнул. Видимо надеясь, что если развеять недоразумение с его ночевками на стороне, это хоть немного их сблизит, он уточнил:
– Там вода ледяная по берегу из-за родников. А я ледяную воду… Не люблю я ее.
– И питаешься у Феди потому? Сено у него, что-ль вкуснее? – не поднимая глаз, с шуточной издевкой ответила Акулина. Было не ясно, весело ли она шутит, и это высказывание примирительное, или злое ядовитое остроумие.
– Да, эт… Причем здесь… Сено-то… Просто, заодно все, – Игнатий, осекся и разозлился собственной нерешительности. Не зная, что ответить, с накату продолжил начатое: – Я хотел в бане сегодня помыться. Я уж там все загодя приготовил. Но там узлы какие-то, тулупы старые. Смотрю – вроде наши?
Голоса красивого звонкого пения, проплыв над озером, унеслись дальше, вдоль течения Тихой, и там навсегда растаяли в бесконечном летнем эхе. Девки отпели свою песню.
– Наши, – ответила она равнодушно, но помолчав, уточнила: – Я сегодня снесла, к завтрему приготовила. Надо-ть перебрать, да гожее постирать, а не гожее, так и вон… На чердак.
– Так ты, эт… Убери. Я б хоть помылся, весь колюсь, как… – солнце приклонилось к тому берегу озера и неприятно светило в глаза. Запели смешанную плясовую. В ней захрипели и забасили пьяные голоса мужиков, от чего песня, ожидаемая как веселая, звучала грубо и зло.
– Да я б домой уж пошел ночевать, – продолжил Игнатий, стараясь быть убедительным. В его голосе скользнуло сдерживаемое раздражение.
Вынести тулупы в предбанник он мог и сам – дело-то простое. Но, если бы Акуша выполнила просьбу, раз муж просит, то показала бы, наверное, что ждет и желает его возвращения.
Не получив ответа, Игнатий добавил уже без надежды, отчего упрек в его голосе звучал уже неприкрыто: – А то совестно, видят же все!
Акулина перевела охладевший взгляд с кошки на красное от закатного солнца озеро. На том берегу пьяные мужики заспорили, песня оборвалась, послышались крики, ругань, и возгласы драки. Видать, и мужики отпели свою песню.
– Я их завтра почищу и отстираю. А к вечеру и баню истопишь, – наконец ответила она, спихнула кошку, и встала.
– Как завтра? – возмутился Игнатий и вскочил на ноги. – Да ты что же это!? Эт как же так!?
– В озере с мостков помойся, или… как хошь сделай, – ответила Акулина свысока, тем более, что стояла повыше, и быстро удалилась в избу, довольно громко хлопнув дверью.
Над берегом, хлопая крыльями, пролетел сыч, пугливо вспискнув на лету.
Игнатий шагнул за нею, поднялся на ступеньки, но остановился, случайно наступив на цветы, оставшиеся лежать нетронутыми. Он долго смотрел на них, не отнимая ноги и что-то сосредоточенно обдумывая. Наконец, махнул рукой и принялся с хладнокровным ожесточением топтать непринятый подарок сапогом, «растирая» цветы с протяжкой, чтоб не осталось ни одного целого кусочка.
Вернулся к нижней ступеньке, устало сел на нее, охапкой сдвинул шапку на лицо обеими руками, и так замер без движения.
На том берегу запели протяжную. Запели хорошо – тоскливо, печально, и с таким сердечным надрывом, что даже засевший в прибрежной раките плачущий сыч, скромно замолчал, словно прислушиваясь к тому, как нужно петь о горе.
Игнатий поднялся, подумал еще немного, опять махнул рукой, и ушел. На тот берег.
***
Вернулся Игнат уже в полной темноте. Сильно шатаясь, он кое-как доплелся до сеновала, остановился и долго стоял, все так же пошатываясь, хотя и держался обеими руками за стену. Наконец, пробубнив осипло что-то невнятное, Игнатий оттолкнулся от стены, и побрел дальше по двору.
Дойдя до бани, он с трудом открыл дверь, вошел внутрь и уселся на пол в предбаннике. В совершенной темноте попробовал выбить огонь из кресала, чтобы растопить печь, но добиться нужных искр не получалось, и он упрямо пробовал еще и еще, пока не убедился, что сегодня ему бани не истопить.
Тогда он улегся на пол, нащупал в темноте овчину, набранную еще его покойной матушкой в большое зимнее одеяло, завернулся в него с головою и уснул.
На том берегу уже не пели, мужики и бабы разошлись по домам с тем, чтобы встретиться теперь по уборке хлеба.
***
За полночь баня загорелась. Пламя красиво и ровно осветило двор, и он стал похож на огромный поминальный стол, у которого в церкви молятся за упокой.
Увидев свет, Акулина в ночной сорочке выскочила на двор, схватила пустой ушат и, босая пролетев мимо бани прямиком к банному примостку, зачерпнула воды, вылила на себя, потом еще. И так, насквозь мокрая, чтоб не загореться, метнулась к открытой банной двери. Игнатий лежал головой на пороге. Она сбросила с мужа дымящуюся овчину, подсунула руки под мышки мужа и рывками потащила его вон. Доволоча до песчаной береговой кромки, она перекатила горячее бездыханное тело в воду так, чтобы выглядывало только лицо и грудь, которую она взялась поливать водою, набирая ее в свои не по-сельски маленькие ладошки.
Когда прибежали Федор с Варварой, все было уже кончено.
Акулина, уже принявшая смерть нелюбимого, а может наоборот, любимого втайне от самой себя, мужа, сидела рядом с ним прямо в воде спиною к озеру, обняв умершего за плечи и прильнув лицом к его подгоревшей бороде. Она уже ни на что не обращала внимания, и все потеряло для нее важность: и Федор с Варварой, и пылающая с треском баня, и холодная прибрежная вода, и мокрая, покрытая пятнами ила и сажи сорочка, и весь этот мир.
– Боже… – бормотала она, вздрагивая всем телом в беззвучных рыданиях. – Того ли я хотела? Из-за глупого упрямства потеряла я мужа…
Промычав что-то невразумительное и выпучив ошалелые глаза, «мертвый» Игнатий резко поднялся и сел, от чего Акулина свалилась набок, шумно плюхнувшись в воду, обнял себя руками, и дрожа, промямлил пьяным непослушным языком:
– У-у… Холодно чего-то… – он с удивленным непониманием огляделся вокруг: ночь, огонь, Федор, Акулина, озеро. Все эти части, понятные по отдельности, не связывались в целое. Такое бывает только во сне. Ледяная вода. Она страшная.
Игнатий вскочил с ужасом, выбежал на берег, и крупно трясясь не то с холода, не то со сна и неожиданности, против воли подошел чуть ближе к догорающей бане. Тепло…
– А… че эт..? – спросил он невнятно, ни к кому не обращаясь, и сделал еще шажок в сторону огня, чтоб быстрее согреться.
Внезапно тишина взорвалась шумом голосов, вопящих что-то непонятное наперебой. Федор, выпучив очи, восторженно кричал о Божьей милости, Варвара причитала в голос его имя, как на похоронах, а Акулина… тихо плакала и вздрагивала, прильнув и обняв его за шею, и прислонив к его груди свою мокрую, и от того темноволосую, голову.
***
Утро к Игнатию пришло с запозданием и болезнью.
Выпив без остановки всю крынку квасу, для которой рядом стояла большая глиняная кружка, и невольно крякнув, Игнатий отер усы и прислушался: в доме никого не было. Подумав недолго, он нерешительно вышел на крыльцо: баня и вправду сгорела. Рядом с уцелевшим примостком возился Федор, обложившийся старыми прохудившимися рыболовными вершами.
– Смотри-ка, – обратился он весело к Игнатию, приветственно взмахнув рукой. – Грабли сгорели до одной. А верши не загорелись, хотя и недалече лежали. Вот, хоть добрался их починить…
– Чего за вино-то хоть было? А, Гнаш? Нам бы хоть кружечку принес! – озорно пошутила Варвара, сидящая на скамье в тени избы. Она перебирала грибы, ссыпанные на землю в огромную пахучую гору. День суетился уже в полную силу.
– Да, эт… Не разбираюсь я… – Игнатий спустился с крыльца, и, пройдя через двор, подошел к останкам бани. Обгоревшие черные головешки не дымились: с утра их старательно залили водой из озера.
– Ну, ты как? – спросил Федор без сочувствия, но и без осуждения. Спросил – как спросил, просто, чтоб знать.
– Да… Почитай, обыкновенно… Только не напьюсь ни как, – Игнатий бодрился от стыда: ни за самим Игнатием, ни за кем из их родни пьянства не значилось. Он присел рядом с Федором, придвинулся вплотную, и вполголоса, чтоб не расслышала Варвара, спросил: – А Акушка где?
Федор, догадавшись о смущении брата, так же тихо, не отрываясь от работы, ответил:
– Пошли с Агафьей по ягоду чуть свет. Скоро уж возвернутся.
Игнатий оглянулся на ворота. Сквозь просвет приоткрытых створок виднелась пустая дорога, уходящая в поросший лесом горизонт.
– Я-а… Эт… Похоже… баню сжег, – признался он тихо и покраснел.
– Да? – Федор взглянул на него быстро, и тут же вернулся к работе с вершей, продолжив заменять лопнувшие и подгнившие прутики новыми. – А я видал-то…
– Ты уж это… того… – Игнатий опять осмотрел груду углей, обступивших остов печи с уцелевшим дымоходом, еще вчера бывших банею. – Ты не серчай… Федь… А?
Федор впутал последнюю хворостинку, потряс вершу и постучал ею об землю – как новая!
– Все слава Богу, брат. Все слава Богу! – он улыбнулся, и обняв Игната, все так же тихо, чтоб не слышала Варвара – а слух и внимательность у нее были отменные – шутливо и добродушно пожурил: – Ты же хотел семью наладить? Я говорил тебе как сделать? А ты решил по-другому… Ну и как? Наладил?
Игнатий отвернулся к озеру. В зарослях тростника отдыхала пара лебедей, вокруг которых сновали вертлявые гусята. Издалека они так слабо желтели, что цветом были похожи на переваренные яичные желтки.
– А у Бога свои пути. Вот Он взялся за тебя, и баня эта – преявный тому признак, как я разумею. И теперь все будет хорошо. Если потерпишь, и, если будешь «слава Богу» говорить, а не унывать, – закончил Федор, встал, поставил вершу на примосток, и распорядился уже во весь голос: – Ну, запрягай, поедем к управляющему, возьмем делянки на сушняк, ну и на бревно для бани.







