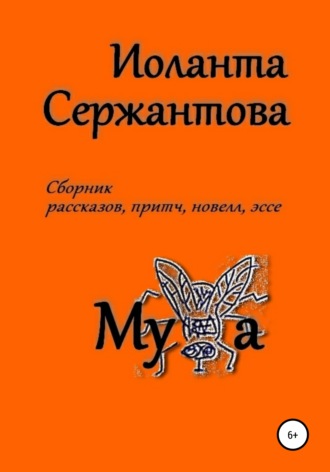
Иоланта Ариковна Сержантова
Муха
Жизнь
– Как считаешь, думают птицы наперёд?
– Странный вопрос.
– Ну, они же «не сеют, не жнут»67!
– А сам-то как полагаешь? Они помнят хорошее, от того, что умны, запоминают плохое, из-за этого недоверчивы, а умение летать в них от способности радоваться каждой минуте, каждому взмаху, каждой крошке.
Голые зимние веточки и почками вербы – воробьи на ней, раскачиваясь нервно, ударам сердца в такт. Ржавые бока поползня. Словно вывалянный в пыльной шерсти до подбородка седой дятел и раскрашенный ярким, зелёным – большой, в красной, чуть ли не на всех дятлов, единой ермолке. Наперебой старания синиц испытать прочность оконного стекла. Испуганная внезапной встречей мышь, что глядит доверчиво в глаза, прямо, ожидая милости или казни. Смятение и праведный гнев пламени, пожирающего в печи дрова…
Что ещё нужно тебе, человече, кроме оправданных ожиданий и надежд, наполненных добрыми предчувствиями вечеров и чаяний, коим сбыться не суждено?
А, может, и не так всё? И впредь суждение об определённом на нашу долю, лишь гадание на листве, что срывает ветер дрожащей, бледной до призрачности рукой.
Почему никто никогда не объяснит наперёд, что и как будет, которое случается после чего, и каким манером оно вообще пойдёт всё… если произойдёт?
Отчего молчат все те, кто знает уже чуть-чуть о том сбывшемся, несправедливом прошлом? Хотят, чтобы мы познали сами, как оно, когда уж ничего не исправить? Казнились чтоб, да поглядеть со стороны злорадно?! Вряд ли так-то.
Свысока своего невежества, вовремя не замечаем мы толкований, не слышим наставлений, пренебрегаем намёками. Не жалея, не стараясь возжечь особо, ломаем спички часов и лет. Минуя жизнь, провожаем её взглядом из-за ширмы суетности, спешим к конечной станции, как будто бы она и есть то, ради чего вся эта затея.
И если вдруг кто-то, – холодную руку на плечо, или шепнёт нечто на ухо в темноте, – принимаем всерьёз, но озарения, грозами, что пугают сильно, забываются скоро. Как бы и не было их совсем, ровно жизни той.
Жизнь… отвлекает нас от главного
Жизнь постоянно отвлекает нас от главного, – от поисков смысла в ней.
Весну проводим, отбиваясь от комаров, осенью выпроваживаем из дому мух, что без спроса намереваются остаться зимовать бок о бок с нами, лето коротаем в поисках тени, а остальную часть года одолеваем сугробы, либо бежим от объятий голого льда, что так и тянет на себя, пытаясь уложить рядом, уронив навзничь, дабы вместе поглядеть в покрытое веснушками звёзд небо или же, уронив ничком, совместно проводить взглядом последний уходящий в никуда экипаж. Впрочем, подчас, даже находясь в обычном положении, попадаешь в столь нелепые ситуации…
Некоторое время тому назад, мне довелось быть свидетелем одного странного случая, который, как те мошки, витая в сознании, мешает сосредоточиться на обретении истины, а посему, после недолгих сомнений, я порешил выговориться. Авось сделается немного легче, и смогу заняться, наконец, делом.
Неделей или двумя ранее, посреди дня, на одной из аллей городского парка я встретил некую молодую особу. В сопровождении спутника, как стало понятно позже из разговора, своего дяди, она каталась на велосипеде. Не обгоняя друг друга, парочка размеренно и чинно крутила педали, с тою лишь разницей, что девица восседала на дамском, складном велосипеде, а мужчина на подходящем для этих целей, мужеском, крепком, неразборном, вполне присущем его полу и званию.
По всё время этой прогулки парочка вела промеж собой беседу, причём было заметно, как девица нервна, а её спутник озадачен. Не имея привычки прислушиваться к стороннему размену чувств и мыслей, из-за усилий, что прилагала к словам девица, и ветра, который дул в направлении меня, я всё же слышал каждое произнесённое слово.
– Дядя, мне кажется, что мы должны обменяться машинами. – Недвусмысленно капризничая, требовала девица.
– Моя дорогая, – Говорил мужчина ей в ответ, явно прилагая немало стараний, чтобы скрыть вполне понятное негодование, – вы сами выбирали, на чём ехать, я не неволил. К тому же, исходя из того, какой длины у меня ноги, мне было бы неловко, да просто немыслимо управляться с вашим велосипедом!
– Дядя! Вы должны! – Строго и властно заявила девица.
– О чём вы, моя милая? – Мужчина выглядел более, чем смущённым.
– Вы должны быть более сговорчивы! – Тон, с которым были произнесены эти слова, звучал неприятно и оскорбительно даже для меня, совершенно постороннего человека.
Проглотив своё негодование, мужчина смолчал, и быть может, я никогда не узнал бы, чем закончился их спор, если бы навстречу, из-за поворота аллеи не выдвинулся конный полицейский.
Не сбавляя хода, барышня повернула руль в его сторону, и с криками:
– Господин полицейский! Господин полицейский! Помогите! Как хорошо, что вы здесь! Только вы один в состоянии мне помочь! – Едва не бросилась под ноги его лошади.
Полицейский, состроив покровительственную мину, натянул поводья, грузно спешился и поинтересовался, что же произошло, и кто нуждается в его участии. Ловко изобразив сожаление, и выказав подлую смекалку, коей обладает редкий мужчина, барышня произнесла:
– Господин полицейский, моему дяде нехорошо, пожалуйста, помогите доставить его домой.
– Но ваши велосипеды… – начал было служивый, в ответ на что девица, с жаром отбросив надоевшую ей машинку в кусты, ухватилась за руль принадлежащего дяде велосипеда:
– Я поеду на нём, а вы помогите моему любимому дядюшке!
Полицейский подсобил взобраться опешившему68 мужчине позади себя на лошадь, а девица, управляя понравившемся ей велосипедом, весело покатилась вперёд, указывая путь.
С победным, откровенно хищным видом она проехала мимо меня, даже не удостоив случайным взглядом, чтобы удостовериться, какое впечатление оставила о себе. Девица добилась того, чего хотела, и, кроме этого, её не заботило больше ничего.
Жизнь… Она постоянно отвлекает нас от главного…
Зимний лес
I
Поползень насмешливо и сочувственно поглядывал на воробья, который, неумело подражая ему, долбил что-то примёрзшее ко дну выстланной мхом широкой чаши из собранной горстью корней трёх сросшихся дубов. Смотрел недолго, а после, как не выдержал, тряхнул гладко зачёсанной назад причёской, и принялся тихо ворчать:
– Эх, молодёжь! Ну, и откуда только клювы у вас растут. Ничего-то вы не умеете, никакого от вас толку… Так вот надо делать это, так, так, так. – Внятно учил поползень, ударяя тонким клювом не прямо, как пытался воробей, но с небольшим наклоном. Войдя в раж, он расставил лапы для надёжности, и принялся тюкать без остановки, пока не запыхался. – Видишь?! Если ты правша, бей справа, левша, так от левого крыла. Понятно тебе?! – Переводя дух, наконец, спросил он.
Пока поползень объяснял, как правильно пользоваться тем, что имеешь, на донышке набралось достаточно крошек, и воробей, довольный тем, что добился своего, молча кивал головой, а сам подбирал, подбирал, подбирал крошки, пока чаша не сделалась совершенно пуста.
Ну, что ж, отдавая должное смекалке воробья, как не поинтересоваться тем, что стал бы делать он, не окажись подле поползня?
II
Зимний лес, если войти в него без предвзятости и предубежденья, глядится чуть ли не Летним садом. Тем, что в Петербурге. И хотя в нём не
отыщется бюста поэта, за право считаться родиной которого боролись семь городов, незрячий, ослеплённый снегом, сотворённый из него ветром, ожидает внимания к себе на одной из оленьих троп. Снежный Гомер куда нежнее любой из мраморных своих копий. Поверхность его негладка, и от того глядится куда как более живой, неутаённой правдой. Заложник69 великих знаний, как печалей, он трогателен, понятен, досягаем, хрупок и от того ж, раним. Всё, как в судьбе70.
А чуть выше – сражённый, но не сломленный, деревянный идол тянет сучья рук к небу. То не бранная скульптура мнимого божества, не рукотворный болван, но скромное, приличное, в ряду других изваяние. В нём угадываются черты многого, многих, и манит он к себе взгляд, а по добру или поздорову, – то, как каждый о себе возомнит.
III
Выжженный семенем клёна, видится на снежной доске силуэт воробья. В осевшей под сугробом поленнице мнится спешащий к Новогодней ночи дед…
Сосуд дня, отстоявшись к закату, прозрачен и бел на просвет. На дно горизонта пали его тревоги, а вздохи и мечты, высказанное вслух, да взгляды вослед молча, – парят, сбившись в облако. Что с ними будет, и куда им идти теперь?
Пусть
Воспоминания, как кегли, пока не трогаешь, стоят себе тихонечко рядами, не шелохнутся, но, стоит лишь коснуться их, как сыплются под ноги, мешаясь идти, пока хорошенько не подумаешь о них. А там уж, цепляют они друг друга, и не разберёшь уже – что из-за чего произошло и почему, да кто за кем уходил. Хотя, – вот это вот самое, – кто за кем, помнишь точно.
Только отчего… по какой причине они сообщали об том заране? Зачем!? Из-за чего выбирали именно меня, чтобы сообщить ту страшную весть?
Бабушка никогда не слишком-то откровенничала со мной. Часто кормила исподтишка, иногда делилась частью своей крохотной пенсии, показывала, как шить, мастерить игрушки из бумаги, выращивать и рисовать цветы, чтить всё, что живо, и Новый Год научила любить так, как это умела только она, – когда один лишь взгляд на новогоднюю ёлку наполняет тебя чистой хрустальной радостью, что льётся вовнутрь, но всё никак не может переполнить. Будто бы ты сам – и есть весь мир, с его луной и звёздами, с солнцем, морем, соснами до небес, щенками и блохастыми котятами, что пьют молоко рядом с бабушкиным креслом, у горячей батареи, закутанной в старое пальто, чтобы малыши не обожглись. И всем этим богатством бабушка делилась как-то немногословно, больше показывала, чем рассказывала, да и подправляла, если я ошибался в чём, также – молча…
Когда я глядел на бабушку со стороны, а мне нравилось делать это, то она казалась хранителем некой тайны, которая заставляла её быть намного более сдержанной, чем хотелось того самой. Неведомые мне по малолетству страдания сомкнули края её век, – с размахом, крепко, прочно. Точно так же бабушка защипывала пирожки, – кончиками широких, натруженных, умелых пальцев. Даже улыбка не лишала её грустного выражения, но мне нравилось и оно, я был готов вечно подглядывать за тем, как, во время чтения или любой работы, бабушка неслышно шевелит губами, будто помогая себе.
И вот однажды вечером, когда я, по обыкновению не спросившись родителей, постучался в дверь квартиры, где жила бабушка, она открыла мне, но не подставила мягкую щёку для поцелуя, как бывало, а сразу отправила мыть руки и усадила за стол. Ах, эти бабушкины котлетки… и вишнёвое варенье с косточками к чаю! Мы недолго посидели за столом, а перед тем, как мне уйти, бабушка принялась нагружать меня какими-то милыми вещицами, которые нравились мне с младенчества. Но, вместо радости обладания тем, о чём давно мечталось втайне, я с испугом поглядел на бабушку и спросил:
– Бабуль, ты чего это?!
Бабушке никогда не была жадной, нет, но в её внезапной чрезмерной щедрости сквозило что-то пугающее. И тогда я услышал тихое, сказанное будто бы не ею самой:
– Я скоро умру… – Мне стало так страшно, что, хлопоча глупыми словами, тут же поторопился уйти.
Через два дня бабушка не проснулась поутру, и забрала с собой всё, что окружало её: вкусно пахнувшие простыни, выстиранные в синем эмалированном тазу на кухонном, выпачканном штукатуркой, табурете, пирожки с капустой и домашним яблочным повидлом, да слепых котят, пускающих носом молочные пузыри.
Переболев потерей бабушки, но так и не смирившись с нею, я часто задавал себе вопрос, – зачем она предупредила меня? Чего я не сделал, чтобы задержать её? Что сделал я?!. И мог ли…
После этой бабушки была и другая, которая известила меня о своём скором уходе. Произнесённая ею фраза оказалась всё той же, и, хотя лет мне было куда больше, чем в первый раз, но она породила точно такой же неподдельный отчётливый ужас.
Дело было накануне Нового года, кухню пучило от аромата свежемолотого кофе и пирогов, на столе передо мной стояло любимое вишнёвое варенье. Подкладывая его в розетку, бабушка так обыденно, между прочим повторила те страшные, слышанные уже мной однажды, слова. Вслушиваясь в них, я продолжал есть вишни, рассчитывая на то, что перепутал, выдумал, что ошибся, в конце концов! Прочтя в моих глазах всё, о чём я промолчал, и имея в виду проживающее с ней семейство, бабушка произнесла с нежной, прощающей смятение улыбкой:
– Я им такой подлости на праздники не устрою. – И сдержала своё слово.
Измученная страхами, что выпадают на долю людей, луна всматривается в освещённые окна, надеясь встретиться с прозрачными глазами поэтов или сияющими – влюблённых, но так бывает далеко не всегда. И тогда луна переводит взгляд в лес, а там, каплями дождя или слёз – обнаруживает отпечатки бегства косуль, поспешного хода оленей, след от завалившегося на бок кабана, да круглые пятна цвета бордо на снегу. Ах… если бы это были вишни… пусть это будут только они.
На этот раз…
… По лесу шли двое, – дед и внук.
– Ой, деда, шишечка! Подними меня на руки скорее, дай-ка сорву!
– Это ещё зачем?
– Зелёненькая, красивая…
– Ну, а губить-то почто? Сосновой шишке чтобы вырасти, не один год надобен, целых три, а дереву, так и вовсе – ого-го.
– Да вон их тут сколько растёт! Можно нарубить, в город отвезти, а там украсить на новый год!
– Ну, встретишь ты новый год, а деревце потом куда, в мусор? Угасают они в загонах городских ёлочных базаров, гибнут не за что ни про что. Думаю, если бы только сосна знала, что не дано ей дожить до первой шишки, стала бы она трудиться, расти?
– А это ж сколько, дед?
– У которой как. Ежели десять годков исполниться, то уж и можно ожидать.
– И сколько?
– По-разному. Бывает, что двадцать пять, а кого и шестьдесят.
– Дней?
– Лет! Сосны да ели до трёхсот лет живут.
– …
Пламя топчет арбузные ломти дров без жалости, хрустят корочкой, мешая вспомнить напоследок, как они были деревьями. Алый от ярости огонь в печи гудит басом:
– Полно вам! Когда уж повзрослеете!
А было ли им время подрасти, да почувствовать, как это? Лопаясь, рассыпаются они на гладкие кубики и шепчутся друг с дружкой, стараются наговориться, припомнить. Но разве ж то можно успеть?
Как вместить в пол часа: колыбели цветенье, ветра песнь, лета жаркую печку и осени тлен. Отрезвленье снегов, реки талой воды в половодье, чьей-то норки призыв: «Здесь уютно и тихо…» Переждать собирался, остался навек. Жаль, недолгий.
Оперевшись ногами покрепче, выбирался наверх. Был раздавлен однажды, – то кто-то его не заметил, а иной подошёл, тёплым ветром подул на макушку, и вокруг положил позаметней камней. Те мешали дышать, но стерпел, перерос и приметнее стал. Обратился росточек в подростка, – тонкий стан, мягкий ворс, не удержит птенца, и, пожалуй, нескладен, – ствол слегка кривоват.
Только вскоре, разошлась детская курточка коры по швам, стала мала. Набираясь помалу ветвей и красы, смог весной два гнезда приютить. А после, большие сугробы – придержать упросила зима… Вроде, руки замёрзли, а, может, врала. Кто их знает, закутанных шалью.
… По лесу шли двое, – дед и внук. Снег был уже довольно глубок, и старый ступал впереди, но шагал небыстро и нешироко, чтобы малый попадал в его следы. Когда люди скрылись из виду, сосновая шишка распахнула подведённые зелёным веки, и перевела дух:
– Не тронули, обошлось, на этот раз…
1 января
Первый день нового года… Он, по обыкновению, всем недоволен.
Сонный и хмурый, с серым, криво отглаженным лицом и тяжелой головой, которую, как многие в этот час, он едва в состоянии оторвать от снежной подушки… Никоим образом вставать не желается ему, но без того, чтобы ему не пробудиться, хотя к полудню, нельзя никак. Ибо без него, собственно, ни за что не начнётся Новый Год… Ведь кто-то должен вовремя дать ему знать, что уже пора.
Вот потому и надо понемногу оживать, перестилать мятые простыни, да идти пересчитывать разбросанные в снегу следы веселья новогодней ночи. Их много об эту пору, и следует подобрать все до единого, чтобы было чисто и празднично!
Трепет прошлогодней листвы на деревьях, как случайно несорванный последний лист календаря в канун нового года, первого его дня, невольно передаётся и нам. Пока он ещё дрожит на ветру, цепляясь за прошлое, но стоит смять его, что остаётся? Картонное дно?! А дальше, после-то что?
Каждый взволнован первыми часами незнакомого ещё никому года, о котором пока никто ничего не знает. Не представленный покуда никем, он – тайна, окутанная хрупким берестяным свитком времён. Знакомые, но непривычные ещё, немного чужие числа, дни недели, рассветы чуточку не те, иные даты. И хотя говорят о том, что всё вокруг крутится подле некой незримой оси Вечности, и любое повторяется из века в век, меняются лишь предметы, коими окружают себя люди, всё равно, – каждый год удивителен по-своему.
Ближе к середине дня, уже совершенно по-весеннему поют длиннохвостые синицы. Одна отважная мелкая мушка морозит крылья и пробует раскатать наст, не обронив себя в чужих глазах. Обстукивая ставни деревьев, дятел перелетает от одного к другому, будит и тормошит, настоятельно требуя проверить, – всё ли в целости, все ли на месте, каждое ли сохранно, не потерялся ли кто при переходе из одного года в другой.
Первый день года! И.… неужели же можно, вот так вот взять, и просто проспать его?!
Мне не нужен…
Перечитайте "Миргород" с его
"Старосветскими помещиками". Это доставит много радости, и тихая грусть, которая,
несомненно, посетит Ваше сердце,
будет означать,
что частица Вас все еще бродит по тропинкам «нищей России».
(Отповедь иммигранту71)
Если бы не было в нём практической нужды, то при первой же возможности я бросил бы календарь в топку, и непременно проследил бы за тем, чтобы он хорошенько прогорел. Дотла. Ему, – зануде, скептику и педанту, не место среди нас, людей. Он навязывает нам неочевидные тяготы начала недели, принуждает к веселью, когда мы не расположены видеть кого-либо, и вызывает чувство ущербности, когда глядим на дождь за окном зимней порой, если судить о её наступлении всё по тому же календарю.
Каждому нужен свой численник72. Солнышко за окном? Праздник! Птицы перепевают друг друга на ветке? Весна! Комар пролетел мимо сугроба? Так почти что уже лето! Счастлив, значит молод. Несчастен – то, увы, – безнадёжно стар.
И никаких тебе «прожитых лет». Одно только «Я живу!», с теми красками, которых стоишь, которые умеешь понять, почувствовать, рядом с теми, кого любишь и кому нужен сам.
В личном календаре должны быть особые записи о родных местах и людях. Это необязательно, не только там, где появился на свет, и вовсе не про кровное родство речь, но про то, о котором часто говорят, но в которое нечасто верят, – духовное. У каждого наберётся с десяток таких мест, и наверняка отыщутся люди, имена коих нельзя не вписать.
К примеру, мне мила Грузия, потому что там жила Эля, мама друга. Улица Панкисская, дом номер три. Район Тбилиси, который так славно называется – Долидзе. Чуть в горку и направо…
Помню славные покойные утра, жаркое солнце, вид фуникулера через окно …и сладкий распев молочника где-то в сердце Грузинской столицы:"Мацони! Мацони!"…
Честное слово, совестно, но хочется плакать. И принимаюсь рыдать, дряхлея на глазах, поливая слезами не одну только ту дату в календаре, когда не стало Эли. Неисчислимы потоки этих слёз. Разве можно ограничить скорбь единым днём, если часть души, которая была так полно занята, опустела вдруг?..
Иногда я чувствую на себе лукавый, полный любви взгляд Эли, а ветер времени нет-нет, да принесёт звук её неузнаваемого уже голоса:
– Не грусти. Не зацикливайся. Смейся почаще. Слёзы так горьки, и разъедают не столько кожу, сколько сердце…
Стоит перестать плакать, как стекло души делается необыкновенно чистым… пока его не тронет луч солнца, и не станут видны просохшие следы жали73.
Если бы люди умели так же красиво смущаться, как это делают облака, если бы могли так же горевать, как они… Без следа…
Мне не нужен календарь, чтобы напоминал об очевидном: о временах года, о рассвете и вечерней заре. Мне не надо, чтобы он указывал, когда мне стоит радоваться, а когда пришла пора грустить.
Мне – не нужен…







