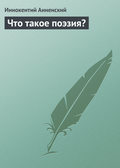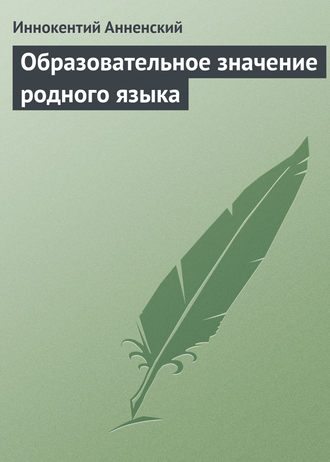
Иннокентий Анненский
Образовательное значение родного языка
Нам остается коснуться еще образовательного значения грамматики родного языка.
Ценность языкового чутья в этом предмете весьма велика и притом не только на первых ступенях грамматической работы: если мы когда-нибудь дождемся высшего курса грамматики, то он будет основан именно на развитии этого языкового чутья. Я не буду говорить здесь об элементарной грамматике; курс начальный прекрасно разработан и выяснен для русской и школы двумя замечательными педагогами: И. Ф. Рашевским и покойным В. Я. Стоюниным (можно вспомнить также прежних почтенных работников на этом поприще Перевлесского и Ушинского). Меня интересует теперь прохождение грамматики не как проделывание умственной гимнастики, или школа орфографии, а как изучение языка, т. е. возведение в сознание ученика форм, слов и оборотов, легко и правильно применяемых им и в то же время по своей природе совершенно ему непонятных. Мы, обыкновенно, считаем, что цели осмысления может служить так называемая историческая грамматика, т. е. церковнославянская фонетика и морфология. Возьмем пример. Положим, мы не понимаем наречия домой: подстановив под живую русскую форму мертвую церковно-славянскую дом ви, мы проделываем над этою формой ряд операций, пока выведем из нее домой (или прихватим, для объяснения, по дороге слово долой). Восстановление истории слова или формы, далеко не всегда возможное, а главное, не всегда доступное ученикам, составляет все-таки только часть объяснения. Ученик должен отдать себе отчет в тех процессах, благодаря которым сохраняется или преобразуется в языке та или другая форма.
В данном случае в наречии домой он имеет дело с процессом изолирования. Этот процесс совершается в языке искони, он совершается и теперь; и ученик, упражняя на словесном материале свое языковое чутье, может составить себе ясное представление о нем даже помимо исторической грамматики.
Но если ученик не переживет в себе известного процесса, то никогда его не поймет, не смотря ни на какие формы, ни древнеславянские, ни греческие, ни санскритские. Положим вы, разобрав случившееся вам наречие домой, назвали ему процесс, в данном случае действовавший: он вам подыщет целую массу явлений в том же роде, сначала с вашею помощью, потом один: здесь будет бы, если, хотя, либо, пожалуйста, спасибо; усвоив себе понятие о процессе изолирования, ученик будет в состоянии затем постоянно контролировать свой, наличный и прибывающий запас, не проявляется ли в нем этого процесса. Таким же путем знакомится он, тоже при помощи учителя конечно, но на том материале, который у него всегда под рукой, с законом аналогии, с звуковым законом (например, хотя бы по поводу наших гласных с ударением и без ударения), с народною этимологией (т. е. осмыслением чужих или хотя бы своих, но незнакомых слов, вроде boulevard – народное гульвар; волконея из фальконет). Изучая образовательные процессы речи, ученик объяснит себе самые разнообразные явления и осветит их своим же собственным опытом; сначала под руководством, потом один, он отметит и в своем языке, и в языке товарищей (если вы научите его наблюдать) те же явления, которые совершаются у каждого народа и в каждый период жизни человека.
Мало по малу вы укрепите в его сознании представление об ассоциации по смежности, которая установила связь между звуком и значением; он поймет, что один и тот же процесс действовал еще в незапамятные времена, служа образованию речи, и действует теперь в душе ученика, который учит латинские слова, а раз он это поймет, из его представлений о языке само собою выпадет немало мистических элементов. Некоторые процессы языка особенно поучительны, напр., стремление мысли дифференцировать понятая и закреплять их за словесными дублетами, например: хлеба – хлебы, голова – глава, Worte – Wörter, песня – песнь; fragile – frêle.
Наблюдение этого процесса будет поддерживать в ученике стремление к точности речи.
Я не хочу и не думаю говорить всем этим, что формы церковно-славянские и древнерусские в курсе нашем не нужны; я утверждаю только, что основание высшего курса грамматики должно лежать не в них, а в изучении языковых процессов, которыми определяется жизнь языка и объясняется его история; формы церковно-славянские и древне– или народно-русские суть одно из подспорий, они лишь помогают выяснению законов речи, поскольку входят, как материал, в Sprachgefühl ученика: само по себе какое-нибудь рекох или зълъiимъвм, нашего злым, ничего человеку объяснить не могут, и он не поймет жизнь и историю своего языка яснее, если узнает, что в слове ея по-славянски писался юс или даже будет отчетливо знать и сопоставлять с русскими формами сотню таких древнеязычных или иноязычных явлений.