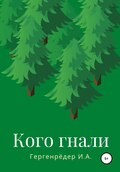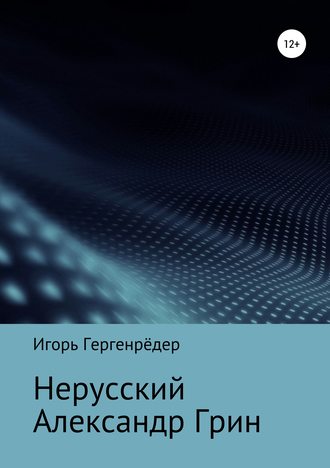
Игорь Алексеевич Гергенрёдер
Нерусский Александр Грин
Свою историю он закончил словами:
«Простите, дорогой – не соотечественник, дорогой иностранец, – прошло десять лет».
Эта фраза подчёркивает разрыв героя с русскими, они для него иностранцы. Грин ещё более усиливает данность словами рассказчика: «мой удивительный собеседник, «русский», – или как было его назвать теперь?» смотрел на знакомую девушку из местных.
Она назвала его Диас. Теперь и рассказчик называет бывшего Петра Шильдерова этим именем. Он задаёт ему обдуманный вопрос:
«– Как вы чувствуете себя в этой стране?
– Очень хорошо и приятно».
Его история, говорит Грин словами рассказчика – «глубоко-человеческая повесть об одной из немногих побед, побед блестящих и бескорыстных». Победа – то, что он перестал быть русским, став «здешним» в Андах. Рассказчик говорит: «Диас есть Диас. Никакими усилиями воображения не мог я представить его русским, но, может быть, и не был он им, принадлежа от рождения к загадочной орлиной расе, чья родина – в них самих, способных на все».
Победа Диаса бескорыстна, ибо он – не искатель золота. Он сделался нерусским ради трудной, полной риска жизни среди скал и ущелий – жизни бедняка, но бедняка свободного. Грин произносит устами рассказчика:
«Я обдумывал рассказ Диаса. Он ушел, оставив мне тихое волнение радости». Произведение завершается восхитительными словами о том, что люди, подобные Диасу, – безумцы, возлюбившие пустыню, проникающие в неисследованные места, «дети труда, кладущие основание городам в чаще лесов. Их кости рассеяны за полярным кругом и в знойных песках черного материка, и в дикой глубине океана». Остановить их может только смерть. «Своей смертью, – написано в рассказе, – они умножают везде жизнь и трепет борьбы».
Сопоставим это со словами: «Разнообразие земных форм вместо глухой русской равнины казалось мне издавна законным достоянием всякого, желающего видеть так, а не иначе».
Добавив к этому описание города, откуда ушёл Пётр Шильдеров (который, может быть, и не был русским, как и сам Грин), мы видим выраженное напрямую, без обиняков, отношение к России. Дав образом своего героя, порвавшего с ней, пример, Грин словно показал на фасаде своего творчества её и его Шильдер / Schilder – вывески. Здесь объяснение, почему писатель творчески вырывался из России, создавая свой нерусский мир. Будучи русским, быть тем, кто умножает везде жизнь и трепет борьбы, по Грину, невозможно. Он настойчиво заостряет внимание читателя на том, что Пётр Шильдеров стал нерусским Диасом.
Глава VIII. Произведение провидца
Поразителен своей глубиной и образным иносказанием напечатанный в журнале «Россия», N 3 (12), 1924, рассказ «Крысолов», относящийся к советскому времени. Замученному несчастьями герою рассказа, благодаря встрече с девушкой, которая, как и он, продаёт из нужды книги, и помощи Крысолова, открывается суть положения, грозившего ему гибелью. Крысолов говорит ему: «Вы были окружены крысами» (не их ли сородич уничтожил малинник?).
Герой был окружён крысами в Петрограде весны 1920-го, на третьем году Советской власти.
Рассказ оказался провидческим. В нём крысиная цитадель – банк, – и разве не с банков началось открытое обогащение, господство крыс во времени, наставшем после того, как Ленсовет сменило Санкт-Петербургское Городское (Законодательное) собрание? Крысы «собираются под знаком таинственных превращений, действуя как люди, и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это».
Крысы правят бал по всей стране: «Они крадут и продают с пользой, удивительной для честного труженика, и обманывают блеском своих одежд и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошенничают и подстерегают; окружаясь роскошью, едят и пьют довольно и имеют все в изобилии».
Грин был чужеродным явлением в Советской России, которую он заклеймил, рассказом «Крысолов» показав крыс Петрограда, – «колыбели революции». Отметим, что Крысолов, его житель, – нерусский. Он – О. Иенсен, имя его дочери – Сузи.