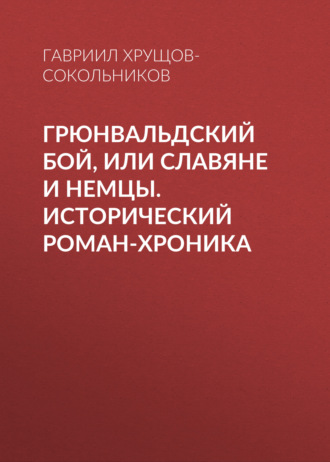
Гавриил Хрущов-Сокольников
Грюнвальдский бой, или Славяне и немцы. Исторический роман-хроника
Глава XVIII. В Троках
День уже склонялся к вечеру, когда Бельский со свитою подъехал к переправе, соединяющей Трокский замок с берегом.
У громадной деревянной пристани, далеко вдававшейся в озеро, толпились перевозчики. Бельский въехал на помост. Многие, узнав в нём знаменитого воеводу и любимца княжеского, снимали шапки и кланялись.
– Что, его ясная милость в замке? – осведомился он у одного из старших перевозчиков.
– Вот уже вторую неделю гостят, – отвечал тот, низко кланяясь, – недужен был; да теперь, слава великому Перкунасу, мудрый Спортыс сумел отогнать от него лихоманку. Здоров!
Многие из слуг ясного пана отвернулись и посмотрели в сторону при имени Перкунаса, но старый Бельский только усмехнулся в седые усы и проговорил не без юмора:
– Ну, там Перкунас Перкунасом, а ты перевези-ка нас скорее к замку, скоро и солнце сядет!
– Не смею, ясный пан! – снова с поклоном отвечал перевозчик.
– Это ещё что? Как не смеешь? – крикнул Бельский.
– Строгий приказ от каштеляна: с оружием господ не возить к замку без позволения!
– Это ещё что за новости? Давно ли такой приказ?
– А с неделю. Тут, говорят, крыжаки, чтобы проклята была их душа, подвох какой замышляли против нашего солнышка Кейстутовича. Да мы их поймали, ну вот и не пускают.
– Да ведь я не крыжак, – смеясь, заметил Бельский, – я воевода княжий.
– Знаю, ясный пан, да указ больно строг, никак не могу без позволенья, да вот на ваше счастье от замка каштелян едет, сюда гребёт.
Действительно, к пристани подходила небольшая барка, и на ней восседал на покрытой красной кошмой скамье, низенький, пузатенький человек в желтом кафтане русского покроя и узкой войлочной шапке. Он ещё издали узнал пана Бельского и низко ему кланялся. Это был помощник трокского каштеляна, подчаший шляхтич Кобзич, герба «Лютый», давно уже, чуть ли не со времени Ольгерда, занимавший этот пост.
– Челом бью ясному пану! – закричал он, чуть барка коснулась пристани, – добро пожаловать! А наш великий государь больно соскучился о твоей ясной милости, ещё сегодня за обедом вспоминал о тебе.
– Эй, вы!.. Поддержите! – крикнул он гребцам, – поддержите, разве не знаете, что я со своими ногами не могу взобраться на вашу треклятую лестницу?
Бельский слез с коня и пошёл навстречу Кобзичу, который, пыхтя и опираясь, еле взобрался на пристань. Паны обнялись как старые знакомые, и скоро лодка их поплыла обратно к Трокскому замку. Слуги пана Бельского волей-неволей должны были расположиться на ночлег в прибрежной деревушке.
Дорогой друзья разговорились, и каштелян посвятил Бельского в последния новости двора.
– Что, о войне не слышно ли чего? – спрашивал старый воевода, – а то сабли в ножнах ржавеют!
– Кто проникнет в мысли «мудрейшего»? – с улыбкой ответил подчаший, – Господь Бог его ведает, – молчит, молчит, а на завтра поход – никому и невдомёк. Налетит, как сокол, и аминь!
Литвины давно уже прозвали своего героя-князя именем «мудрейшего». Это был самый лестный эпитет на бедном литовском наречии.
– Оно и лучше: дружина в сборе, сабли наточены, что же терпеть по-пустому, – заметил Бельский. – Да только мне сказывали, что по Смоленской дороге, к Москве, хлеб и запасы везут. Уж не на Москву ли поход?
– А тем и лучше, пан ясный, схизматики они, хуже басурманов, хуже нечисти татарской!
Бельский строго взглянул на говорившего.
– Один враг у Литвы и Польши – немец! – резко проговорил он, – терять хоть одного человека в битве с другими племенами, когда цел хоть один крыжак, – неисправимая ошибка. Правда, москали – схизматики, да они тоже наши братья-славяне, рядом с нами дрались с неверными. Ты только сочти, сколько их князей легло под Ворсклой, и как легли: с мечами в руках, а не в позорном бегстве!
– На кого намекает пан ясный? – обидчиво спросил подчаший, – я не виноват, что моя лошадь, раненая стрелой, закусила удила и носила меня четыре часа.
– Кто же говорит?! Храбрость пана подчашего выше всех сомнений, но я говорю, кто дрался рядом с русскими, бок о бок, тот только может уважать их и удивляться им!.. Я поляк и католик, но клянусь святым Станиславом, на поле брани я побратался и с русскими, и со жмудинами, даром что они язычники!
Пан подчаший отвернулся и сплюнул.
– Пан воевода слишком добр и благороден, но, в свою очередь, клянусь Ченстоховской Божьей Маткой, скорее спасу из воды паршивого щенка, чем москаля или жмудина, будь то сам князь Вингала Кейстутович!
Глаза воеводы сверкнули.
– Пан подчаший мне друг, а князь Вингала Эйрагольский мне побратим, прошу пана или прекратить разговор, или не отзываться о нём дурно!
– Дурно! Да сохрани Боже! Я только удивляюсь, как это такой мудрый князь, брат нашего «мудрейшего» – и пребывает в язычестве!
– Каждый познаёт Бога и поклоняется ему, как знает! Давно ли и «мудрейший» просветился светом истины? Придет пора и Эйрагольский князь познает свет христианства!
– Ну, нет, ясный пан воевода, – быстро возразил подчаший. – Довелось мне с самим «мудрейшим» быть в Эйрагольском замке. Взошёл и бежал, бежал, словно за мной неслись тысячи демонов, так бежал, словно у меня были ноги двадцатилетнего!
– Что же было там страшного? Я тоже был в замке и ничего не видал!
– А серебряный чурбан в тронной зале, а медные ужи и змеи! Довольно их одних, чтобы ввергнуть в ад правоверного.
– Изображение богини Прауримы! – захохотал воевода, – что же тут ужасного?.. Я и не таких истуканов видел в Ромнове на Дубисе[34].
– Как, ясный пан воевода был и в Ромнове на Дубисе? – с испугом проговорил подчаший и стал быстро креститься, – Езус и Мария, Матка Боска Ченстоховска, смилуйтесь надо мною, грешным, – тихонько шептал он и отодвинулся от воеводы.
Тот с любопытством, смешанным с насмешкой, смотрел на перепуганного пана. Ему почему-то вдруг захотелось раздразнить его ещё более.
– А что скажет пан, когда узнает, что я с Вингалой Эйрагольским собственноручно принёс жертву богине Прауриме!
– Быть может такого греха сам святейший в Авиньоне[35] разрешить не может! Что же сказал вам духовник? Как он допустил вас до святого причастия?
– Духовник? Посмотрел бы я, как бы он осмелился перечить мне, – гордо сказал Бельский, – я эту чёрную и белую нищую братию вот где держу! – он показал сжатый кулак, – от них одних вся смута и рознь и в князьях, и в народах славянских!
Пан подчаший умолк. Разговор начинал принимать слишком резкий оттенок, и он, как верный и пламенный католик, не рисковал продолжать его, боясь с одной стороны рассердить влиятельного человека, а с другой – совершить страшный грех, согласившись хотя в чём бы то ни было с таким явным отступником от веры.
– Что это у вас за новые гребцы? – после молчания спросил Бельский, всматриваясь в смуглые, совсем не литовского типа лица гребцов.
– А это «мудрейший» с похода на Крым привёл[36]. Народ такой, семей до пятисот, «караимами» зовут, веры еврейской, а на жидов не похожи. Нахвалиться на них не можем. одно плохо: как ни бьюсь – ни слова по-польски не понимают!
– Это придёт со временем. Ну, а как они в воинском деле?
– Куда им – разве что маркитантами[37]. Однако, вот мы и приехали; сейчас пойдёшь к князю или отдохнёшь с дороги?
– Это зависит от воли «мудрейшего»: теперь время после обеда, может быть он и сейчас примет меня!
– А ночевать ко мне? Спор не ссора, не так ли, ясный пан воевода?
– Благодарю за предложение. Да ведь у меня в княжей дружине два молодца, надо на их хозяйство заглянуть.
Лодка причалила к пристани, и оба пана направились к замковым воротам, находившимся в нескольких шагах от берега.
Массивные стены замка были сложены из красного обожжённого кирпича, и только башни, своды ворот и бойницы выложены из глыб кремнистого камня. Ворота были из железных полос, а зубцы – стены вооружены крюками из того же металла. Над самыми входными воротами, обращёнными на пристань, возвышалась высокая круглая башня, на вершине которой стояло что-то странное по своей форме и неуклюжести. Это был удлиненный бочонок, окованный железными обручами в несколько рядов и помещённый на деревянном же постаменте с колёсами. Рядом лежали чугунные, странной формы, огромные ступы, а возле них, в пирамидальных кучах, сложены были обкатанные водой валуны, кое-где подправленные каменотесами. Двое часовых бессменно находились на площадке башни и зорко берегли эти невиданные орудия от посторонних.
Это было, как, вероятно, читатель догадался, не что иное, как первообразы теперешних представителей артиллерии. Чугунные ступы, иначе называемые магдебургскими мортирами, или камнемётами, а деревянный обрубок, высверленный и окованный обручами, – первообраз полевой пушки; из первых стреляли камнями навесно, из второй надеялись стрелять прицельно, но опытов пока ещё не делали, а палили порой холодными зарядами, наводя на окрестных жителей ужас громовыми раскатами выстрелов.
В воротах стоял караул от отряда псковских лучников, которыми, как известно, командовал сын пана Бельского. Случайно молодой витязь тоже был у ворот и несказанно изумился, узнав в одном из приезжих своего отца.
Как почтительный сын, он бросился навстречу воеводе и нежно поцеловал его в руку и плечо, но отец быстро поднял его голову и поцеловал прямо в губы.
– Брат Стефан здесь? – спросил он, когда первые изъявления радости встречи прошли.
– Нет, отец, он остался в Вильне, «мудрейший» приказал ему пополнить дружину.
– Как, разве поход?
– Мы меньше всех знаем. Говорят.
– Но на кого же?
– Говорят на Москву – из-за Смоленска.
Брови старого воеводы сжались. Он не сказал ничего, но, видимо, это известие было ему неприятно.
– Где наисветлейший пан князь? – спросил он, чтобы переменить разговор.
– В своих покоях. Готовят торжественный приём послов.
– Чьих?
– От великого магистра.
– Они уже здесь?
– Нет, завтра прибудут, да не простые рыцари, а великие сановники ордена, комтур Марквард Зольцбах и ещё два ассистента.
– Знаю я этих разбойников, обоих бы на одну осину, – резко перебил сына воевода. – Однако мне надо видеть «мудрейшего» сегодня же. Поди скажи дежурному боярину.
– Давно же, отец, ты не был при дворе, здесь, в Троках, мы живём без этикета, князь принимает без доклада – иди прямо, двери замка отворены, скажешь служителю, он проводит тебя к самому князю.
Старый воевода поспешил исполнить совет сына и через несколько минут входил в высокий зал, расписанный по сторонам фресками исторического содержания.
Окружённый толпой слуг и придворных, в глубине зала стоял среднего роста довольно плотный мужчина, безусый и безбородый, отдавая последние приказания. Голос у него был резкий и какого-то странного металлического тембра. Его невозможно было не узнать из тысячи голосов. Привычка повелевать слышалась в каждом слове, виделась в каждом жесте этого пожилого человека, и хотя он был одет проще и беднее каждого из его окружающих, никто не задумался бы сказать, где слуги, а где повелитель.
Это и был сам «мудрейший», великий князь всей Литвы и Жмуди Витовт Кейстутович[38]. Глядя на его небольшую коренастую фигуру, на полуженское лицо, лишённое растительности, трудно было бы узнать в нём легендарного воина-героя, наполнявшего всю тогдашнюю Европу шумом своих военных подвигов. Зато глаза, проницательные, светящиеся каким-то неземным огнём, этот мощный, властный голос, обличали в нём человека, привыкшего только повелевать. Он был одет в серый кафтан русского покроя и небольшую шапочку. То и другое было старо и изношено; очевидно, князь не гонялся за роскошью туалета.
Заметив вошедшего Бельского, он мигом словно переродился. Глаза его заблистали видимым удовольствием, он быстро пошёл ему навстречу.
Бельский хотел по обычаю преклонить колено, но Витовт не допустил и горячо обнял ратного товарища.
– Как я рад, что ты приехал, я уже хотел посылать за тобою! – сказал Витовт приветливо.
– Очень счастлив, если когда-нибудь и в чём-нибудь могу ещё понадобиться твоей милости!
– Что за крыжакский язык!? Довольно, будто я не знаю, что Бельский раньше всех явится на мой зов!
Бельский низко поклонился.
– Знаю я тебя, упрямца и заговорника, ты моей Вильни как чумы избегаешь. Зато уже если ты сам приехал – значит, дело есть – говори, всё исполню!
– Дело не моё, государь, а дело отчизны, – серьёзно отвечал Бельский, – иначе бы я и не посмел явиться к твоим светлым очам!
– Отчизны? – переспросил Витовт. – Пойдём в мои покои, там объяснишь.
– А вы, – обратился он к слугам и рабочим, стоявшим в почтительном отдалении, – чтобы в ночь было всё готово! Гостей везти по озеру тихо, с трубачами, дать знать московскому пушкарю Максиму, сделать три выстрела в честь гостей. Пива и мёду не жалеть для прислуги и свиты. Ссоры не заводить – зачинщиков повешу! Ступайте!
Круто повернувшись, Витовт вышел из зала; за ним вслед шёл Бельский. Пройдя несколько покоев, убранных с княжеской роскошью, они вступили наконец в небольшую хоромину с низким потолком и узкими стрельчатыми окнами. Рамы были металлические, со вставленными в них кружками зелёноватого литого стекла. В углу перед большим чёрным крестом с костяным распятием стоял аналой и лежала кожаная подушка[39]. Вдоль противоположной стены виднелась кровать простого дерева, покрытая выделанной медвежьей шкурой, в изголовье лежал мешок из грубой шёлковой материи, набитой свежим душистым сеном. Стена над кроватью была завешана замечательно красивым турецким ковром, подарком Тохтамыша, и на нём была развешана целая коллекция оружия: от луков и самострелов до мечей, сабель, тяжёлых шестопёров и перначей включительно.
Среди комнаты, против окна помещался длинный стол, тоже простого дубового дерева, без резьбы и украшений, но с целой горой свитков, рукописей и переплетённых в кожу фолиантов. Два громадных медных подсвечника, в четыре свечи каждый, стояли на столе. Свечи были из желтого воска и сгоревшие до половины – очевидно, князь занимался и по вечерам. Стены комнаты, пол и потолок были из гладко выстроганных дубовых досок, и затем ни одного украшения, ни одного предмета роскоши не было видно в этой рабочей комнате-спальне одного из могущественных владык Европы.
– Садись и говори, я слушаю! – показывая на табурет около стола, сказал князь и сам сел к столу.
– Хлеба не радуют, государь, по всему трокскому княжеству семян не соберешь, – начал издали своё сообщение Бельский.
– Знаю, я уже распорядился: в Новой Мархии у меня закуплена пшеница, король и брат дал пятьдесят барок, их уже гонят по Нёману[40]
– Вот об этом я и хотел доложить. Немецкие злодеи знают об этом караване, а так как он пойдёт через их земли, то его приказано задержать!
– Пусть посмеют! – вскрикнул Витовт и стукнул кулаком по столу, – пусть посмеют, это будет оскорбление и короля, и меня.
– Первое ли, государь? – осмелился заметить воевода.
Витовт вскочил с места.
– Как смеешь ты говорить так?! – воскликнул он, – или ты забываешь, кто я!
– Нет, могущественный государь, не забываю, предо мною величайший герой и величайший политик в Европе, и он в это время, когда я говорю, думает совершить великую ошибку!
– Ошибку, ты говоришь?
– Ошибку, государь.
Витовт усмехнулся.
– Ну, говори же, умник, в чём моя ошибка?
– Дозволь мне, великий государь, говорить откровенно и прямо, – на языке моём нет лести, я не умею говорить иначе, как прямо и смело. Дозволь?
– Тебе ли после сказанного просить дозволения. Говори – я слушаю.
– Государь, – снова начал воевода, – я слышал, что ты собираешься на Москву, ты стягиваешь рати, готовишь запасы.
– Правда. Так что же в этом? Мой наречённый сынок мироволит изменникам Святославичам[41]; пора положить предел этой явной злобе и тайной измене!
– Так ли, государь? Смоляне всегда были верны тебе, храбро бились с тобой под Ворсклой, двое князей Святославичей легли рядом с тобой. Да и что за счёты между тобой и Москвой? Великая княгиня Софья Витовтовна сумеет отстоять твоё дело перед московскими великими князьями. Другое дело ждёт тебя, другие подвиги. Погляди только кругом: вся Жмудь стонет под немецким ярмом. Сам великий магистр Юнгинген ездил усмирять их, сколько крови пролито, литовской крови, сколько деревень сожжено, сколько взято и угнано в плен!

Замок в Троках в XV веке
Витовт вздрогнул и облокотился на руку. Воевода продолжал:
– А между тем, они, эти проклятые крыжаки, осмеливаются говорить, что всё это творится твоим княжеским именем, твоим изволением! Не на Москву, князь великий, не на Смоленск – на хищническое гнездо рыцарей – как один человек – поднимется Литва, Русь и Польша. Помни, что во всей Литве нет ни одной семьи, нет ни одного дома, который бы не оплакивал жертвы немецкого варварства! Тех убили, тех сожгли, тех отравили!
Витовт молчал, морщины на челе его пролегали всё глубже и глубже. Мысли его были далеко, в его памяти воскресали страшные, ужасные картины; ему виделись бледные лица его несчастных сыновей, отравленных немецкими злодеями-рыцарями, ему слышались их предсмертные отчаянные стоны.
– Не напоминай! – воскликнул он. – Клянусь Богом всемогущим, ни на одно мгновение я не забывал этого! Было, правда, время, обуянный гордынею, я хотел под своим скипетром соединить всю Московию и Литву. Но Всевышний не захотел этого. Пусть Москва растёт и развивается, у неё удел Восток, у меня – Запад!
– Но поход на Москву? Рати собираются? – переспросил Бельский.
– Собрать рать – ещё не боем идти, – уклончиво отвечал Витовт. – Собрался в Лиду, попал в Вильню, – докончил он свою фразу.
– Постой, да откуда же ты знаешь, что немцы хотят перехватить караван с хлебом? – вдруг спросил он, словно вспоминая сообщённое воеводой известие.
– Да от солтыса Богенского с нарочным письмо получил. Засада на берегу устроена, сто гербовых, при одном белом плаще, в засаде сидят. Эх, послать бы туда сотню-другую татарских джигитов, – налетели бы, как соколы ночью, а потом поминай, как звали; утром ни следа, ни знака!
– Татар, говоришь ты? Каких же?
– Да вот из здешних поселенцев. Такие удальцы, что и не найти. Был я на днях у старого Джелядин-Туган-мирзы. Ну, государь, видел я у него в улусе байгу, клянусь святым Станиславом, никогда не видал ничего подобного.
– В чём же дело? – переспросил заинтересованный Витовт.
– В воинской науке каждая новая хитрость, каждая воинская уловка – залог победы, – отвечал Бельский и горячо, в нескольких словах, передал великому князю всё то, чему был свидетелем в татарском улусе, не забыл также, разумеется, и эпизода на охоте. Старик Бельский был честный и прямой человек, в противоположность многим из своих родичей; он не любил хвастать и потому правдиво и ясно описал всё, как было.
Очевидно, известие об арканах, употребляемых татарами против закованных в железо рыцарей, навело Витовта на новые мысли: он долго молчал.
– Знаю я этого старого татарского мудреца Джелядина, – начал он, – давно знаю, сколько раз заезжал к нему. Что же он ни разу не показал мне своей воинской забавы? Но сына его я вовсе что-то не помню!
– Он ещё очень молод, говорят, только недавно и пускать-то его к гостям стал старый мирза.
– И то правда; вот уже два года, как я у него не был, непременно заеду на обратном пути из Трок. А тебе спасибо, старый боевой товарищ, за разумное слово и за совет. Помни только одно: я душой литвин, душой ненавижу немцев больше всех вас вместе и имею на то право.
Но помни ещё – я князь и повелитель моей земли, я отвечаю за её благосостояние, я не могу дозволить, чтобы за один мой неосторожный шаг платились головами и имуществом мои верные подданные, я должен ждать и глубже всех таить в себе чувство обиды, ненависти и мести. Но настанет час, он близок, – и я скажу всем вам, а тебе первому: «Друзья и братья – вперёд на немцев, вперёд на страшный бой, на последний бой!»
– Амен! – кончил торжественно Бельский и перекрестился; Витовт крепко обнял его.
– А теперь иди к себе, отдохни, а завтра прошу явиться, я принимаю послов великого магистра. Чем больше и великолепней свита, тем лучше. А теперь спать!
Старый воевода не заставил себе повторять приказания, он поклонился и вышел, оставив Витовта погружённым в глубокие думы.
Долго просидел великий князь в таком положении. Давно уже по всему замку зажглись огни и ночная стража на бойницах сменила дневную, а он не трогался с места и не приказывал зажечь свечи. Он был так погружён в свою крепкую думу, что и не заметил, как ночь мало-помалу распростерла свой покров и над замком, и над озером, и над бесконечной зелёной далью.
Тихо, беззвучными шагами подошла великая княгиня Анна Святославовна к дверям покоя своего державного супруга. Ночная внутренняя замковая стража имела приказ пропускать только её одну в частные покои великого князя. Дверь тихо отворилась, княгиня остановилась в изумлении на пороге: в покое было темно, только полоска лунного света, пробиваясь сквозь узорчатое окно, дробилась на полу.
Витовт вздрогнул и поднял голову. Глубокая сердечная дружба связывала его с княгиней. Они были уже в том возрасте, когда пыл любви сменяется дружбой. Ему было 64 года, ей более пятидесяти. Целую долгую жизнь, исполненную опасностей и тяжёлых кровавых жертв, провели они рука об руку, деля и горе, и радость. Никогда ещё слово упрека или раздора не гремело между ними. Даже в страшную минуту, когда было получено известие, что единственные сыновья их, малютки Иван и Юрий, оставшиеся заложниками у тевтонских рыцарей, отравлены, она не упрекнула мужа[42].
– Это ты, Анна? – спросил Витовт, поднимая голову, – как хорошо, что ты пришла. Мысли тяжёлые, невыносимые жгут и томят мою душу.
– Э, полно, Александр[43], злые дни миновали. Береги только себя, в тебе одном залог счастья и покоя и семьи твоей, и родной Литвы!
– Семьи! – каким-то упавшим голосом проговорил Витовт, – ты одна да наша малютка Рака – вот и все вы! Ах, как мне невыразимо больно в такие минуты вспомнить про наших милых бедных малюток. Ведь если бы не злодеи немцы, были бы у меня преемники, были бы два витязя литовских! Завтра, завтра я опять увижу этих ненавистных крыжаков, завтра снова должен буду говорить с ними, слушать их мерзкую вкрадчивую речь лисиц. О, с каким бы я восторгом велел схватить их, бросить в темницу и капля по капле влить им в рот того самого яду, каким они отравили наших малюток!
– Господь велит прощать врагам, – тихо сказала княгиня.
– Прощать! – воскликнул Витовт, и лицо его приняло страшное выражение, – простить этим злодеям?! Да разве можно простить змею, кусающую в пятку! Казнить каждую змею, истребить весь её род до последнего змееныша – долг каждого честного человека. О, Боже всесильный! – в каком-то диком экстазе произнёс он, – не раз, не два, сотни раз ежедневно слышал ты мои клятвы мести и ненависти к этим злодеям. Господи, или укрепи меня на святое дело мести, или уничтожь меня одним ударом!
– Что с тобой, Александр, ты так расстроен сегодня, или дурные вести дошли до тебя? Скажи, поделись со мной твоим горем. Мы много делили и счастья, и горя.
– Дурные вести, Анна. Вся Жмудь в волнении. Крыжаки посекают людей тысячами, пожары деревень и жатв каждую ночь освещают небо. У меня нет больше сил сдерживать волненье народа. Я не могу больше держать сторону проклятых!
– Кто же мешает тебе прямо отложиться от них и одним ударом освободить и Литву, и Жмудь от злой немецкой неволи?
– Пойми, Анна, что я связан по рукам и ногам; брат Ягайло рад бы помочь в борьбе с орденом, да паны польские, эти истинные владельцы-господари Малой Польши, знать не хотят войны. Потом, сынок наш наречённый, Василий Московский, тоже голову поднял, за изменников смоленских заступается, рать собирает. Скиргайло в Киеве не хочет сидеть смирно. Везде враги, враги, а у меня только одна Литва да Северская область. Страшно пускаться в бой одному на четырёх! Ведь немцы чуть пронюхают, что я рать собираю, – в две недели под Вильней будут!
– Ну, с Василием ты скоро поладишь. Сейчас ко мне от Софьюшки гонец прибежал. Прочитай-ка, что она пишет. Что Василий-то Дмитриевич рать собирает совсем не на тебя, что надо ему татарских баскаков обмануть, а война с тобой – только предлог один. И поклон он тебе шлёт, и сказать приказывает, чтобы ты не обижался и его не выдавал, а также приказал бы воеводам для отвода глаз рать супротив него собирать.
– Хитёр! Хитёр Василий Дмитриевич. Нужно рати идти на Рязань, а он на Смоленск поход правит. А собрал рать, куда её ни поверни, всё рать! Хитёр!
– А и тебе бы также попробовать: объяви поход под Смоленск, сзывай северские, стародубские и понизовские полки, а когда подойдут, зови Ягайлу Ольгердовича в гости, переговори по-братски, да и решите: быть войне с немцами, али не быть.
– Знаешь что, Анна, даром что ты баба, а умней всякого мудрого советчика рассудила. Отвечай Софье с тем же гонцом, что я шлю рать под Смоленск и буду сам при ней. Поняла? Да только словом не обмолвись, гонца могут перенять! Завтра сам напишу Ольгердовичу, пусть он назначит, где быть съезду. Брату Вингале в Эйраголу ночью гонца пошлю, чтобы гнал в шею немецких послов. А великих гостей, что завтра ко мне от самого великого магистра пожалуют, приму честь честью. Задержу их в замке, а там что Бог даст!
С этими словами он ударил по небольшому металлическому бубну, стоявшему на столе. Тотчас вошёл постельничий.
– Огня! – проговорил князь, – да трёх гонцов приготовить – через час в путь.
Слуги поспешили зажечь большие восковые свечи в массивных подсвечниках на столе и безмолвно удалились. Княгиня подошла к мужу и долго-долго смотрела ему в глаза; в этом взоре было столько благодарности, столько сердечной привязанности, что старый Витовт пригнул к себе голову своей супруги и нежно поцеловал в лоб.
– Иди теперь с миром на покой, а я сяду за работу, есть письма, которых нельзя поверить писать даже ближним боярам.
– Значит, война с немцами? – ещё раз спросила княгиня.
– Пока поход под Смоленск! – с чуть заметной улыбкой отвечал Витовт. Княгиня поняла этот взгляд и этот ответ и, в свою очередь, поцеловав мужа, тихо удалилась.
Оставшись один, Витовт с лихорадочной поспешностью стал писать на кусках пергамента письмо за письмом. Очевидно, раздумье, мучившее его в последнее время, сменилось теперь полной решимостью.
У него был предлог к собиранию большой рати – поход под Смоленск. Немецкие соглядатаи, так часто являвшиеся в Литву под видом всевозможных посольств, были не опасны, стоило только принять их и временно поместить в трокском замке, откуда не было никакой возможности посылать донесения в Пруссию.
Прежде всего, нужно было, чтобы в Жмуди вспыхнуло не одиночное, а общее восстание, во-вторых, чтобы король польский Ягайло согласился помогать литовскому князю в борьбе против ордена, в-третьих, вызвать на помощь татар Тохтамыша, посулив им добычу, и, в-четвертых, и главных, собрать собственную рать, не подавая рыцарям вида, что она готовится против них.
Быстро бегало перо великого князя, и, строка за строкой, мелкой, но разборчивой, рукописи покрывали узкие свитки пергамента. Через час усиленной работы письма были кончены, завязаны шнурками и запечатаны гербовой печатью, которую Витовт всегда носил при себе на цепочке у пояса.
Один за другим, постельничьим были введены три гонца из княжеских ловчих. Каждому из них Витовт дал наставление и кошелёк с деньгами. Каждому наказ был один и тот же: скорей погибнуть, чем не доставить письма.
Только далеко после полуночи Витовт ушёл на покой, но отдых его был не долог; чуть блеснули по макушкам деревьев первые лучи восходящего солнца, с берега подали сигнал, что великие гости тронулись с ночлега, а через несколько минут оглушительным раскатом грянула пушка из высокой бойницы над замком; это был знак, что посольство село в лодки и отчалило от пристани.
Говор и движение начались в замке. Отовсюду к берегу шли вельможи и дворяне свиты великого князя в дорогих одеждах – на встречу гостей; латники придворной стражи, гремя оружием, мерным шагом проходили и строились в два ряда: от самой пристани на острове до ворот замка. Это были на подбор все атлеты громадного роста, в высоких чёрных меховых шапках, увитых спирально золотыми цепями. Кисти их падали им на плечи. В руках их были наполовину серебряные, наполовину стальные топоры. Очевидно, великий князь хотел блеснуть перед заезжими рыцарями богатством и пышностью, и этим польстить их самолюбию.
Наконец, процессия показалась. На первой лодке-пароме сидели уполномоченные великим магистром Юнгингеном рыцари – комтур Маргвард Зельбах и с ним два брата ордена. Орден никогда не доверял одному из собственных братьев, а всегда посылал по нескольку человек – частью для придания торжественности посольству, частью для контроля и шпионства. Братья-рыцари вообще действовали далеко не по-рыцарски!
Свита послов, состоящая из «гербовых» воинов, пажей, кнехтов и оруженосцев, помещалась на следующей лодке. Бархат, атлас, золото и серебро так и горели на костюмах свиты, между тем как посол-рыцарь, и его ассистенты, во имя строгого монашескего устава, были одеты только в боевые доспехи с наброшенными поверх них белыми шерстяными плащами, с нашитыми на них чёрными суконными крестами.
У двух ассистентов высокие шлемы были украшены страусовыми перьями, у Маргварда же Зельбаха пучок павлиных перьев высоко качался над маленькой золотой графской короной, прикреплённой сверх стального шлема.
С высокой башни замка в честь именитых гостей по временам раздавались громкие раскаты мортирных выстрелов, причём собравшаяся многочисленная толпа народа всякий раз вздрагивала, а многие даже готовы были бежать.
Наконец лодки добрались до пристани, и гости по устланному дорогими коврами трапу вступили на берег.
Старейший из бояр великокняжеских, престарелый Видимунд Лешко сказал гостям приветственную речь от имени великого князя и пожелал благополучного исполнения их миссии.
– Когда мы можем рассчитывать на честь видеть его величество короля литовского державного Витольда? – спросил Марквард, ответив по уставу на официальное приветствие[44].
– Всепресветлейший владетель наш недужен, но, милостью Господней, он получил облегчение, и послал меня, недостойного, объявить вам, высокородный Посол, что торжественный приём он назначит в самом скором времени.
Марквард невольно поморщился. Дело, за которым он был послан, было смешное. А тут, очевидно, дело шло на оттяжку, о которой нельзя было предполагать, судя по торжественности приёма в летней резиденции князя. Он взглянул на своих спутников: они тоже глядели сумрачно и строго; оглянулся вокруг – и невольно смутился. Они с товарищами находились на острове, отделённом от материка широкой полосой воды, и окружённые блестящей, но вооружённой стражей, – ни о сопротивлении, ни о бегстве думать было нельзя; надо было покориться воле великого князя.


