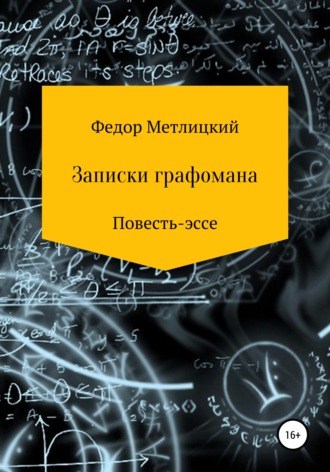
Федор Федорович Метлицкий
Записки графомана. Повесть-эссе
9
Катя досаждала мне своим субъективным отношением к миру. Воспринимала человеческие страдания, несправедливость слишком горячо, чтобы судить объективно. Читая по айфону в «твиттере» информацию о нашей действительности, она негодовала, язвительно глядя на меня:
– Какое убожество! В Якутии травят художницу, что она изобразила аборигенов в меховых малахаях обнимающих и целующих друг друга!
– Безумие! – возмущался я ей в лицо. – В тридцать седьмом году клекотали: кругом враги! Еще тогда народу вбили эту идеологию – она стала инстинктом, которую и сейчас не вырвешь. Боль, ужас вкупе с нищенством – переломили народ. Стокгольмский синдром.
Мы в негодовании смотрели друг на друга.
____
Я уже не мог жить бесцельно, как гуляющие в парке старички с посохами. Мне нужна хотя бы простенькая цель – сбегать в книжный магазин, чтобы купить новую книгу любимого писателя, или в магазин с бумажкой жены, что купить.
Главная цель стала литература. Я мечтал зарабатывать на ней. Написал повестушку в виде писем героя – из жизни, о распрях на работе, в том числе в семье и у родственников.
Никто, кроме родных, не знал, что я изобразил картинки из личной жизни. Не хотел, но получилось с натуры, описал в точности как было, не пожалел никого, чтобы узнавали, и кое кого из моих недоброжелателей презирали, только изменил имена. Конечно, не так, как в украинском сайте «Миротворец», где публикация имен и адресов прямо наводила бандитов на квартиры для разборки.
Короче, текст был натуралистическим описанием, не преображенным метафорой, которая освещала бы не привычную мне реальность.
Жена смотрела на меня странным взглядом. Она молчала, и здесь было недоумение, и даже отчуждение.
– Ты оболгал нас!
Я горделиво знал, что все жены, с кем будущие писатели начинают жить в нищей молодости, не признают в них писателей, даже получивших признание, не то, что те, кто выскакивает за именитых авторов.
– Ты прочитала буквально. Не заметила, что это воплощение идеи.
– Какой еще идеи?
– Идеи тоски по иной жизни, в одиночестве среди серых будней. Я изобразил, как есть, правдиво.
– Чушь! – фыркнула она и замкнула уста.
Я оправдывал себя:
– А как быть с Левитаном? Чехова тоже обвиняли, что он в «Попрыгунье» оболгал его друга – художника Левитана и его любовницу художницу Кувшинникову. И чуть не дошло до дуэли. А Лесков, изобразивший жену…
– А наш с тобой интим… Зачем?
– У всех интим одинаковый! – разозлился я. – Это типично. Ты, вернее героиня там изображена положительной, хотя и реалистично.
Она вздохнула.
– Надо любить. То есть помогать – руками! – близким. Хотя бы лекарства принимать.
– А разве я не пытаюсь действовать? Путем п… писания того, что, может быть, необходимо людям?
Хотел сказать, что действие – это и отстаивание своей позиции, а тут я упрям. Но промолчал.
– Но для этого надо быть талантом.
– Ты не хочешь знать мой внутренний мир?
Она смотрела с недоумением.
– Я и так знаю тебя, ка облупленного.
– Ты меня не понимаешь. Никогда не любила.
Она суровела.
– В том то и дело, что почему-то люблю.
– За что любить такое ничтожество? – оглушенно спросил я.
– Не знаю. Но не люблю в тебе дурачества. Удивительно, как ты сохранил в себе детство! Мальчишка! Ради красного словца не пожалеешь ни мать, ни отца. Никак не повзрослеешь. Хочешь прославиться на наших костях.
– Я хочу понять что-то… А ты – лишь бы напечатался.
Я поверил ее словам, вернее, тону. Для нее любовь не требует слов. Я для нее – лицемер, вместо настоящего участия мусолящий слова. Любви претит любое лицедейство по отношению к ней.
Оставалось нехорошее жжение униженности. Как мы можем любить друг друга, совершенно чужие по духу? Нет, дело в другом. Привык считать, что я умнее, – гораздо больше читал, думал, искал. А она только переживала за других, и в этом вся ее жизнь. Но все равно жгло унижение. И это останется, наверно, на всю жизнь.
И ее шумные подруги, прочитавшие мою повестушку, на встречах у нас в дни рождения и просто так, почему-то замолкали при виде меня, мне показалось, смотрели с недоумением.
Может быть, я принимаю жажду любить за любовь к конкретной женщине? Нет, это не так. Я люблю и не могу без нее.
Говорят и поют о любви, единственной, в чем смысл жизни. А повсюду происходит кровавое разделение. Наверно, любовь – не самая ценная сторона жизни человека. Есть еще что-то более важное, за что дерутся. Любовь ничего не дает развитию истории.
Или это я недолюбливаю?
____
Я разжигал себя. Равнодушное фотографическое видение – это глухота сознания, из-за ограниченного кругозора, за которым не видно глубины и безграничности мира. Жизнь – это борьба с натурализмом зрения. Один футуролог сказал: «Большинство людей плохо себя знает. Это и есть невежество человечества».
С точки зрения психиатра – все мы безумны. Вспомнить хотя бы паранойю тридцатых годов сталинского террора, не без участия народа, самовредительство, готовность жертвовать собой, бред величия, шизофрению раздвоения личности, патологию приподнятого настроения. И я, в своей слепоте, может быть, безумен. Шизофреник, помешанный на страхе кануть в небытие в космическом одиночестве, не став известным среди потомков. Может быть, желание славы – из страха космического одиночества?
Мироощущение человека – это история внушений. Мир устроен так, как мне внушили. Но история – совмещение внушений. Предопределена ли она? Или есть рост объективной истины в потоке внушений?
10
Я пытался разъяснять Кате мои внутренние влечения.
– Понимаешь? Я хочу узнать, кто я такой? Зачем это все? Вообрази тот неоткрытый мир, куда необъяснимо почему стремлюсь, чтобы излечиться от страшного одиночества. И не могу. Нет, это касается не тебя… Это как океан детства, когда стоял на утесе…
Хотел добавить: не могу выйти за пределы, туда, где фантом человека рождается из первого взрыва. Но воздержался.
Она едва слушала, словно болтаю чепуху. Недолюбливала философствующих.
– Зачем тебе все это?
– Не знаю. Такой родился. А писанина – для меня лишь повод.
– Ну и пиши. Только незаметно для меня.
– Я и так урывками, по ночам.
– Ты должен помогать людям. Тогда узнаешь, кто ты на самом деле.
– Наконец, у нас установились нормальные отношения.
– Реальные, – поправила она.
Разговаривать не было смысла.
Униженный, я долго не мог заснуть.
***
Когда авторы пишут, вдруг спотыкаются: слова застревают в стыках, как у Л. Толстого, не знавшего, как изобразить Анну, входящую в дом Облонских, пока он не нашел выход, поставив ее перед зеркалом в прихожей. Или «затыки» у Чехова, когда доходил до середины повествования.
А во мне был сплошной «затык». Как оживить объект, сделать его живым и трепетным, уходя в вольную ощупь метафоры?
И не мог уйти от плоских тупых фотографий реальности, туда, где, как писал Гоголь, громоздятся т и п ы людей и целых эпох, которые двигают громадой истории. И оттуда выглядели мелко и ничтожно мои переживания настоящего, одиночество в отчужденном мире, романтические взлеты туда, в пустынное исцеление, где жизни нет.
Мое графоманство, аскетизм трудоголика, прячущегося от непонятной реальности, неудачи на работе, – все это было до встречи с ней, диковинной птицей, с ее прямотой и честностью. А сейчас появились настоящие слова, когда стал дорожить чем-то. Я осознал, что могу любить.
Когда я стал писать для нее, чтобы доказать что-то ей и оправдать себя, сразу все перевернулось в моем мышлении. Все прежние мысли оказались беспомощным барахтаньем в самом себе. Нужно было находить что-то подлинное, чтобы убедить ее. Перед глазами вставало что-то огромное, непосильное, настоящая жизнь в среде людей.
С того времени я начал бороться с натурализмом в моем сознании. Это означало уйти из душевной пустоты, в которой не чувствую друзей и врагов. Улавливать дух народа – это чувствовать, чтó ему надоело, осточертело, и то, что кажется ему стабильным, на что можно твердо опереться.
Выскочить за корявую изгородь обыденности, это значит мучительно расширять кругозор, включая ощущение истории, искусства и литературы мира. Такой поиск проясняет незначительность наших мелочных чувств и переживаний внутри изгороди, правда, мучительно медленно. Медленно и долго, и никогда не закончится, как путь Сизифа в бесконечно высокую гору познания.
Я узко понимал судьбу, мироощущение, как взгляд в некие глубины, не зависящие от меня. А она – во всей биографии, во всем прожитом человеком, чтобы в конце встретить то, что всегда ожидал – смерть.
Может быть, я боюсь настоящих поступков, дойти до конца?
Поднимались вихри мыслей-догадок, скрепляющих остов еще неясной книги.
«Не одиночество, а любовь и печаль, что настанет миг, и не станет всего дорогого. Вот тон моей судьбы».
Я откалывал застывший пластик времени – и под ним оживала моя боль и надежда. Боги вдохновения поселялись в каждой вещи на столе, в книгах, в слепящем окне, в голубом небе. Во мне вздымалась вся жизненная сила, данная природой, в виде колышущихся трав-народов на утесе у бездны океана, в виде превращений космоса за спокойными огоньками звезд. И тогда появлялись фразы, в которых, мне казалось, умещался весь смысл мироздания.
Да мыслимо ли исправлять миры?
Какая мука у звезды сверхновой,
Когда поля вопят, летя во взрыв,
Чтоб стихнуть в бездне пылью одинокой.
Эти записи-заклинания были некоей силой намерения, двигающей мысль, а не только простым размышлением. Они таили скрытые догадки, и давали направление всей моей жизни. По ночам записывал их в дневнике, чтобы вызвать то чувство, как в детстве на утесе.
Если правильно мыслить, то сила намерения идет верным путем. Эта сила намерения, двигающая мысль, свойственна всем людям. Эту силу можно развить, визуализировать, увидеть, как она течет. Это некая неравновесность, заставляющая двигаться, словно чего-то недостает.
____
Ночами, засыпая, мысленно спорил с женой, желая доказать, что это помимо моей воли, и не могу отказаться.
«Не идет, потому что смотрю на внешнюю жизнь, а не на шекспировскую судьбу жестоких или вялых характеров сумрачного мира, в которых их, моя судьба – центр», – записывал, спросонья хватая дневник. И говорил ей, где-то рядом:
– Как будто в мозгу есть то и то, но охоты нет переключаться. Вернее, неопытность.
– Не идет, потому что не любишь, – всплывала моя жена, неумолимо вбивая в голову гвозди отповедей. – Когда любишь, не надо никаких подпорок, тогда будешь писать легко.
– Но в творчестве это не так просто!
– Ты ищешь спасения в иллюзии. В абстрактной мысли. Поверни в реальную жизнь. Пожалей людей по-настоящему, помогай практически.
– Что я могу? Зажечь словом – и то не умею. Мне нужно раздвинуть фразу, вместить в нее всю судьбу – меня, истории. Чтобы персонаж стал мигом космического движения.
– Ха-ха! Не можешь просто жить, по-настоящему.
«В сознании, тексте должны носиться только метафоры реальности-судьбы, открытые простору вселенной».
– Опять твои завихрения! – раздражалась жена.
«Люди внешне – как я, уходят в некие близости коллективные, но внутри все одинаково отчуждены, и не подозревают, что другие похожи. Отделяют только позиции, смыслы».
– Попал пальцем в небо! Это известно всем, кроме тебя.
Так что же такое любовь? Действие участием? Я не осознавал, что люблю.
И что такое творчество? Удаленное действие – внушением любви? Значит, огнедышащее слово – тоже любовь?
Я запутался.
– Творить может только душа, полная любви, – сурово ответствовала жена.
Значит, я не довел душу до степени действия любовью. И только на пути. Я ниже моей жены!
Я видел ее во сне, не выговаривающей обычные для женщины упреки, а некоей мудрой всезнающей матерью, оберегающей от дурных поступков.
Моим записям-заклинаниям чего-то не хватало. Как будто прятался на обочине мира и только перемалывал одно и то же. Думал, что это не пустые размышления, они таили скрытый ход мыслей, невероятную силу, направляющую всю мою жизнь.
И вскоре понял, что все мои записи исходят из обыденной точки зрения, шелуха.
11
Наше общественное движение переставало быть на слуху. И расходилось с денежными потоками, как и весь мой идеализм. Государство берет с общественных организаций, живущих на взносы их членов, налоги, почти до половины взносов, – как с бизнеса, получающего несопоставимые бабки. В Системе независимым общественным институтам невозможно выжить без государственного ресурса и поддержки. Ее добивались только нужные организации. Такие, как мы, ощущали постоянную угрозу нищенства, в ожидании государственной субсидии. Это заведомо вело к их вымиранию. Более того, наше движение почему-то не нравилось власти.
Система создает фильтры, отбирает определенный вид людей – исполнителей, с условием беспрекословного подчинения власти. Мы через эти фильтры почему-то не могли просочиться. Система переломила сознание народа, он потерял себя, и уже не может вырваться из нее. Люди думают, что замороженное состояние – извечно.
Но во мне не было обиды на Систему. Во всем виновата некомпетентность нас, интеллигентов, не умеющих выкрутиться.
Колючая деятельность государства проходила так, что на нас, свободную общественность, она посматривала недовольно. Мы были в числе тех избыточно усложняющих жизнь в процессе эволюционного развития, кто вымывается и рушится при малейших кризисах. А тут как раз случился экономический кризис и пандемия, и наступало очередное упрощение представлений о жизни.
Мир держится на профессионалах, которые создают самое необходимое для выживания, без них невозможно выжить. Экономика родилась из необходимости человека содержать тело в сытости, и прятаться от хищников в закрытой пещере. Всегда остаются на плаву производители продовольствия, медицинского оборудования и лекарств. Хотя вокруг них всегда роятся, как мухи, те, кто кормит подделками.
Остальные (полиция, армия, вся надстройка), в том числе неумехи тут и там висят на профессионалах, творящих блага, пользуются их плодами, а иногда бросают в костры пророков, без которых нельзя идти вперед. Это не аморализм, а что-то бессмертное, так устроена история, в которой страдают все, в том числе и истинный, реальный труд для пропитания и обеспечения необходимых удобств, технологии, науки, прозрения мыслителей.
Утопическая направленность целей распространяется на все институты, учреждения, усложняюшие жизнь. Полно фейковых организаций и институтов, все время искренне притворяющихся, что занимаются полезным делом, главным делом эпохи. Все это в воображении, а на самом деле у них нет успехов. Да и есть ли они вообще?
Времена кризисов и пандемии не только помогают выяснить истинную картину происходящего. Мир вычищает усложняющих жизнь. Так случается с десятками тысяч интеллектуалов, ученых людей, фирм и организаций, возникших на зыбкой почве услуг, благотворительности, всего связанного с дальнесрочными результатами.
____
У меня была мужская интуиция, способность логистики, как у военачальника, ощущающего всем нутром и опытом дальнейшие действия его армии.
Но выходило поражение. В кризисе экономики, царстве жестокой необходимости должны были отпасть все безделушки, – излишества, которые я считал закономерным усложнением сущностей.
Слежавшаяся во мне тягота выживания стала устойчивой, застыла во времени. Ответственность без любви – тяжкая мертвая ноша. Стал болезненно воспринимать любую обязанность что-то готовить к сроку.
Уволил двух агрессивных бездельников, и думал, как вывести из Совета, отодрать от нашего общественного движения болтунов псевдоученых. Может быть, придется уйти самому. И было жуткое чувство развала организации.
Видел огромность и ответственность задачи – развития организации, и некому помочь. Непосильная ноша.
Описывать мою работу противно. Тяжелая ноша понукания малоподвижной массы к чему-то организованному. Сотрудницы – дамы надменно отказывались переносить даже легкие экспонаты для выставок, хотя проворно таскали для себя домой тяжести – образцы выставочных продуктов. Не видел в совместном труде чего-то, что взволновало бы и хотелось запечатлеть в слове.
В коридоре на диване сидел посланник от коллекторского агентства, поигрывая на пальце цепью-пилкой с острыми зубчиками. Ожидал большой грант, который мы должны были получить от правительства. Это взялся устроить влиятельный чиновник «решала», которого мы приняли за благодетеля. Правда, он объявил, что мы должны отдать ему 80% от гранта. Что-то должно было случиться, и самым легким выходом было отказаться от гранта.
Я ходил в хронически мрачном состоянии – внешне из-за того, что не видел вокруг никого, кто мог бы помочь, и приходилось везти воз самому, – так влез в хитросплетения дела, что и передать некому, никто не в курсе. Надо было найти компетентных и отвечающих за дело соратников – не найду, буду сам тянуть.
Да и дома – досада остановок в попытках самопознания, горький опыт неудач в попытках писать.
Философию, литературу пишут люди, свободные от бремени организованного труда, управления неповоротливыми массами, повседневных ухищрений улучшить, внедрить и т. п. Они на свободе, в беседах друзей у камина. Там невозможно прекращение дружбы, например, из-за финансовых сделок.
Легко писать, и возноситься в идеи добра и справедливости – будучи в стороне. Презирать, сохраняя достоинство. Но что делать, когда ты не нашел такой точки приложения судьбы, а попал в страшные будни дела, где надо дисциплинировать, где интриги бездельников-эстетов, и надо умно лавировать. И надо тащить дело, а эффективности нет, и набивать шишки, продираясь вслепую, набирая опыт. А по вечерам мучительно отходить, возвращая себя в высоты духа. Чтобы завтра пасть снова.
Добро, любовь не бывают отвлеченными, нужен адрес. Мне кажется, человечество не имеет адреса, его имеет только конкретный человек. Идеи гуманизма – иллюзия. Всеобщего счастья нет. Всем – лучше не будет.
Что же делать дальше?
Мысль, что придется оставить выстраданную всей жизнью работу в общественном движении, подавляла меня, словно расставался с жизнью.
Это была не любовь к моей работе – засосало время, которой не нужно талантов – пробиться, выжить, вот что сделало меня аскетом, недоброжелательным к занятым собой сослуживцам. Это не относится к разряду любви, болезненная рана, которая не заживает, к ней притерпелся организм, и было бы страшно уже ничего не делать, а только холить рану, как уволенному пенсионеру. Все мы, измотанные обязательствами и ответственностью, – аскеты, еще находимся внутри советского жертвенного времени. Отболевшие отзвуки прошлой злости на тех, кто безответственно взваливали на меня их ношу, еще шевелились во мне.
Это как при переломе эпохи, когда ломается прежний устойчивый быт.
И я с облегчением отдалился от тяготы работы и вернулся в мой мир, в котором мог сносно существовать. Мир покоя, куда заваливался, чтобы отдохнуть душой.







