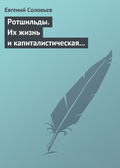Евгений Андреевич Соловьев
Георг Гегель. Его жизнь и философская деятельность
Глава V
Йена. – Профессорская деятельность. – Отношения к Шеллингу
Переехав в Йену, как мы уже сказали, Гегель сразу очутился в самом водовороте германской умственной жизни. Университет, где ему приходилось начинать свою педагогическую деятельность, считался одним из лучших во всей стране; число студентов превышало тысячу, а о массе приват-доцентов нам известно, что они в одно и то же время читали по несколько параллельных курсов – до того их было много. Йена, несомненно, была центром, йенская философская кафедра, еще недавно занятая Фихте, обращала на себя всеобщее внимание. Сама философия обновлялась и привлекала лучшие умы. Кого из молодежи, толпившейся вокруг кафедр профессоров и жадно ловившей несколько туманные, но казавшиеся всеобъемлющими истины, не соблазняла упроченная уже слава Канта и Фихте, чье воображение не разгоралось при взгляде на Шеллинга, excellentissimus’a в свои 25 лет, знаменитого автора системы трансцендентального идеализма, почитавшейся многими за откровение? Философия занимала все поле умственной жизни, а точная наука, несмотря на только что сделанные ею великие открытия в области естествознания, оттеснялась на задний план, пользуясь разве уважением, к которому примешивалась доза высокомерия. Ум человеческий все еще стремился одним могучим порывом творчества объяснить себе сущее и пренебрегал терпеливыми усилиями скромных тружеников-экспериментаторов.
Гегель, философ par excellence, друг Шеллинга, имевший уже черновые наброски своей системы, мог, следовательно, считать себя счастливым: перед ним открывались лучшие перспективы, а полученное недавно наследство позволяло провести несколько лет самостоятельно, без скучных обязанностей домашнего учительства, без боязни за завтрашний день. Все его силы могли найти полное применение, и он, охваченный бодрой атмосферой, на самом деле сразу бросается в бой. Работает он неутомимо, как прежде, но это уже не скромная работа в тиши кабинета, а настоящее дело на глазах у всей Германии, быть может, всего человечества! Сначала, впрочем, ему пришлось написать диссертацию «pro venia legendi»,[4] чтобы получить право читать лекции. Весь материал был уже заготовлен раньше, и, поощряемый, с одной стороны, Шеллингом, с другой, – своим собственным желанием как можно скорее добиться кафедры, Гегель в первый же год своего пребывания в Йене защищает на публичном диспуте свое «De orbitis planetarum», где, отвергая Ньютона, обращается для своих астрономических соображений к гипотезе Платона, изложенной в «Тимее». Как истинный метафизик он выдвигает таинственный ряд чисел: 1, 2, 3, 4, 9, 16, 28 – и определяет расстояние между планетами сообразно его указаниям. Тут отметим маленькое обстоятельство, не оказавшее, впрочем, на Гегеля никакого впечатления. Рассматривая свой таинственный ряд, он пришел к выводу, что между третьей и четвертой планетами не должно быть никакого тела, так как в ряде для него нет соответствующего числа. Как вдруг, почти накануне выхода диссертации, одному из астрономов удается открыть Цереру в пустом, по указанию Гегеля, месте. Нисколько этим не смущаясь, Гегель остался при своем презрении к телескопу. Отметим далее, что 27 августа 1801 года происходил его «Habilitations disputation», то есть диспут правоспособности, на котором наш философ защищал следующие характерные для него тезисы: «Критическая философия бедна идеями»; «Форма скептицизма несовершенна»; «Основанием нравственности должно быть уважение к судьбе». Благополучно покончив свои диспуты, Гегель в 1801 году вывесил для студентов объявление, в котором писал, что в предстоящем семестре им будет прочитан курс лекций по философии вместе со славнейшим Шеллингом.
Оставляя в стороне вопрос о том, каков был этот курс, скажем несколько слов о впечатлении, производимом Гегелем в первые годы его профессорства. Впечатление – увы! – было не из лучших: большинство студентов решительно ничего в этих лекциях не понимало, многие должны были напрягать все свои силы, чтобы уловить хоть единую мысль в длинном и скучном ряде силлогизмов. Розенкранц прямо говорит, что на массу студентов Гегель не имел никакого влияния и его чтения были известны им лишь как редкий экземпляр полной неясности и темноты. Гегелю все давалось с громадным трудом, и сколько-нибудь сносным профессором он стал только через 20 лет в Берлине, да и тогда он без всякого сострадания обременял своих слушателей, требуя от них самого напряженного внимания и нисколько не заботясь о том, чтобы подогревать его. Во всяком случае, большинство студентов предпочитало Фриза или других приват-доцентов, а Гегелю приходилось довольствоваться почти пустой аудиторией. Не видно, однако, чтобы это особенно смущало его, и он всегда, находясь среди молодежи, бывал исполнен чувством собственного достоинства, позволив себе пошутить всего-навсего один раз за пять или шесть лет! Но в душе, быть может, у него накапливалось неудовольствие против счастливых конкурентов, и почему бы не искать здесь, в Йене, начала столкновения с Фризом, таким же приват-доцентом, но пользовавшимся популярностью, которое впоследствии окончилось так бесславно для нашего философа? Но это еще впереди, пока же Гегель читает свои не понятные никому лекции и напрасно старается разъяснить аудитории смысл дорогого его сердцу «Абсолюта». увы! Этот Абсолют, несмотря на все усилия, никак не хочет спуститься на землю и войти в головы слушателей. Из них только двое – Цельман и Сутмейер – считают себя гегельянцами и пропагандируют абсолютное, но едва ли особенно удачно.
Гегель требовал слишком многого от своих слушателей, и те совершенно основательно отвернулись от него, по крайней мере на первых порах. Он хотел, чтобы ему внимали, как пророку, принимали на веру каждую его мысль и почитали бы за высшее счастье на земле проникнуть сквозь колючую скорлупу формы до «мираже-образной», как ее называет Гайм, истины. Впоследствии Гегель действительно добился этого и имел в своем полном распоряжении целую аудиторию, не смевшую дохнуть, чтобы не упустить какого-нибудь самого незначительного звена в бесконечно долгой диалектической цепи. Но для йенских слушателей эти требования были преждевременны. Отметим при этом любопытную черту деспотизма мысли, которая так рано проявилась у нашего философа. Он твердо, безусловно был убежден, что каждое слово, исходящее из его уст, есть нечто подобное откровению, что основные принципы его системы ни в каких доказательствах не нуждаются, что кто не понимает его – тот полуидиот, пошляк, «тривиальный ум, опошлевший от собственной тривиальности». Гегель всегда считал свое дело оконченным, если ему удавалось изложить какой-нибудь вопрос, но он нисколько не заботился о том, чтобы сделать это изложение доступным. Для этого он как будто слишком презирал своих слушателей. Не только заискивать перед ними, но даже снисходить к слабости их понимания он не считал нужным. Свои редкие разъяснения он давал всегда почти с усмешкой, с легким отвращением, подчеркивая при этом, что если он и делает это, то только ввиду умственного убожества других. Единственно подходящими для него учениками были рабы, «с испугом замечавшие свое случайное, мгновенное невнимание», не только не спрашивавшие «почему», но и не смевшие сделать это. Очаровывая людей всеохватывающим гением своей мысли, Гегель в душе достаточно презирал их. Эту черту можно обнаружить даже в форме его чтения. «На профессорском кресле, – пишет его ученик Гото, – он сидел всегда утомленный и угрюмый, с поникшей головой, как бы с неохотой отделяя каждое слово, каждый слог; со швабским произношением (от которого, кстати сказать, он никогда не стремился отделаться) ставил он особо каждое предложение, беспрестанно кашляя и отхаркиваясь и беспрестанно перелистывая огромные тетради». Для того чтобы нашлись преданные слушатели, надо было предварительно внушить, что все сказанное исходит от истинного гения. В Йене же, повторяем, этого условия не было.
К своим читателям, к своим слушателям Гегель не снисходил никогда. Он пренебрегал всеми общедоступными и элементарными приемами, чтобы стать понятнее хоть на йоту. Равно как один немецкий математик на вопрос, почему он не публикует решения одной важной геометрической проблемы, презрительно отвечал: «А пускай добираются сами, если хотят», – так, в сущности, поступал и Гегель. «Понимайте, когда можете», – как будто говорил он своим слушателям, нисколько не заботясь о том, что их головы полны противоречиями и недоумениями. Иногда он даже как бы нарочно сгущал туман, играя словами и разрешая себе настоящие логические фокусы. Во множестве мест «Феноменологии духа», «Философии права» и более поздних курсов Гегель беспрестанно переходит от отвлеченной формулы к ее действительному содержанию, приписывая отвлеченной мысли все свойства действительности, то есть факта, допуская для действительности всю гибкость и все переливы мышления. Но нигде он не говорит, какую часть его суждений должно понимать как допускаемую только для процесса мышления и какую – для мира действительного. От этого читатель и слушатель пребывают в беспрестанной опасности впасть в ошибку, принять одно за другое, приложить мысль в случае, где она неприложима. Отсюда бесконечные споры о том, как следует понимать и к чему относится то или другое выражение. Своего основного положения: истину должно рассматривать не только как сущность знания, но и как существо знающее (то есть здесь мыслимая и действительная природа отождествляются с мыслящим духом) – Гегель не доказывает нигде. Но из него выводились все следствия, во имя него обрушивались громовые критики на отсталых мыслителей, всякое сомнение в этом случае считалось непониманием, полуидиотизмом. Гегель в своей полемике никогда не становится на точку зрения противника. Как в критиках, писанных им' вместе с Шеллингом в Йене, так и позже он не признает права противника удерживать хотя бы временно свое воззрение, но опровергает возражения во имя тех самых начал, которые заподозрены.
Это ли не деспотизм мысли! Гегель и сам иногда признает трудности своей системы и говорит, очень редко впрочем, что для обыкновенного понимания некоторые его положения могут показаться странными и невероятными, что, пожалуй, их могут принять за шутку. В таком случае он «снисходит», дает кое-какие пояснения, предварительно заметив, однако, что для философского понимания все это ясно и понятно, как дважды два…
Но обратимся к его пребыванию в Йене.
Гегель встретился с Шеллингом как старый приятель; они оба поселились на той же квартире. У них были общие знакомые, оба участвовали в каких-то еженедельных философских обедах и оба ближе всего стояли к кружку романтиков. Если Шеллинга влекли в этот кружок не только общность убеждений, но и более нежная приманка в лице Августы Бемер, шестнадцатилетней красавицы – дочери Шлегеля, то Гегель, по-видимому, бескорыстно наслаждался обществом интеллигентных людей, слушая парадоксы Фридриха Шлегеля, добродушные замечания его любовницы Доротеи, всегда остроумные и язвительные речи «сплетницы» Каролины, жены старшего Шлегеля, и так далее. Тут же в Йене Гегель близко сошелся с профессором Нитгаммером, другом Фихте, слегка познакомился с Гете и еще кое с кем. Но на первых порах дружба с Шеллингом заслоняла все другие отношения. В эти дни – дни неуверенности в себе, незнания себя – в нем было столько бескорыстия, что совершенно свободно и искренне он отождествил философию Шеллинга со своей собственной и нисколько не усомнился выразить свои самостоятельно выработанные убеждения в простых и прозрачных формулах Шеллинговой «системы тожества».
К Шеллингу в это время он относился как к другу, увлекался блеском его гения, старался проникнуться его взглядами и «радостно» воспринимал их в себя, ибо они давали ясность и твердость его собственной слишком медленной и темной мысли. Он видел, что система Шеллинга во многих отношениях – его собственная, но свою, по крайней мере в это время, он не мог выразить с таким блеском и такою конкретностью. Поэтому-то он и увлекся, увлекся, как человек, лишенный дара слова, увлекается оратором, излагающим его собственные мысли. Шеллинг подсказывал ему то, что в неясных и запутанных образах копошилось в его собственной голове, чего он не решался высказать по своей слишком уже большой медлительности и осмотрительности. Гегель – и в этом особенность его гения – никогда не мог выразить только мелькнувшей мысли; чтобы сделать это, он предварительно должен был найти ей место во всей системе, связать ее с мириадой других мыслей. Шеллинг же был смелее; Шеллинг «учился на глазах у публики» и всегда гораздо больше заботился о новизне, оригинальности, чем об обстоятельности. Поэтому-то он и дал Гегелю готовую форму, которая для начала могла, по-видимому, вместить и собственную систему последнего. Оба действовали искренне, но Гегель впоследствии, слишком много говоря о своих разногласиях с философией Шеллинга, чересчур мало останавливался на том, чем он был обязан своему другу. А эта обязанность громадна; её можно сравнить лишь с обязанностью Платона перед Сократом и Аристотеля перед Платоном… Шеллинг выяснил Гегелю его самого.
Шеллинг – блестящий писатель, блестящий оратор, блестящий талант вообще. 25-ти лет он пишет уже свою систему трансцендентального идеализма и после Канта и Фихте становится первой знаменитостью Германии. Он работает порывами, свободно отдаваясь стремлению своего творческого духа, не особенно боясь противоречий, не особенно заботясь о том, чтобы придать цельность и строгую форму своей системе. Его философия блещет молодостью, изящной оригинальностью мысли, поэтическими образами, живой верой в самого себя и свои силы. Если метафизика вообще близка к поэзии, то, говоря о Шеллинге, очень трудно сказать, где начинается одна, где кончается другая. Очень сильный логический ум, Шеллинг, однако, не пользуется в полной мере своей замечательной способностью выматывать нить аргументов; он предпочитает сразу взять читателя в свои руки, сразу поразить его воображение, а затем уже совершенно просто и свободно приковывает его внимание своими блестящими парадоксами, своим аттическим остроумием и особенною способностью вводить читателя во все тонкости своего настроения, сначала веселого, жизнерадостного, полного юношеского задора и увлечения, потом – меланхолического и даже траурного. В этом отношении Шеллинга можно назвать вполне поэтической натурой. Его богатая творческая фантазия недолюбливает усидчивую работу, он всегда предпочитает угадывать, вместо того чтобы добираться до вывода путем медлительных и терпеливых усилий. В этом заключалась та особенность его натуры, которая помогла впоследствии Гегелю совершенно оттеснить его на задний план. Он всегда слишком надеется на свой гений, на свою удивительную способность делать самые разнообразные и остроумные сближения, скорее подчинять себе ум читателя, чем руководить им. Достаточно было Фихте в одной газетной рецензии и коротенькой брошюрке намекнуть на принцип своей философии, как Шеллинг на лету подхватывает его, делает из него самые разнообразные выводы и обращает его в свою собственность. То же – и это еще более любопытно – происходит впоследствии с естественными науками. С прозорливостью гения Шеллинг видит, что обновление философии должно явиться оттуда, из этой медленно нарастающей груды фактического материала.
Полный веры в самого себя, он набрасывается на нее и, нисколько не смущаясь разрозненностью материала, тогда еще совершенно необобщенного, создает целую натурфилософскую систему. Блестящие открытия Гальвани, Вольты, Пристлея, Кавендиша, Лавуазье овладевают его воображением. Но отнюдь не думает он идти по пути этих скромных тружеников. Презирая факт, Шеллинг верует лишь в силу дедукции, исходящей из немногих непреложных принципов. Двух-трех лет отрывочных занятий естествознанием оказывается достаточным, чтобы построить философию природы. Перед вами настоящая геометрия: сначала аксиомы, на доказательстве которых Шеллинг не считает даже нужным останавливаться, затем теоремы и леммы. Факты приводятся в виде иллюстраций. О едва известном в то время электричестве, гальванизме и прочем толкуется, как о каких-нибудь проблемах логики; исследования нет – везде господствует силлогизм; опытная физика отсутствует, вместо нее – физика умозрительная.
Но в характере Шеллинга была и другая черта, не менее поучительная, которая, развившись, к бесплодным умствованиям его философии прибавила еще и бесплодно проведенную жизнь. Я говорю об отделении от действительности, о полном пренебрежении к ее практическим задачам и требованиям. В этом случае Шеллинг действует сообразно духу времени; он – одна из бесчисленных жертв этого убийственного разлада между внутренней природой человека и внешними условиями его жизни. Все равно как Гельдерлин сошел с ума, Фридрих Шлегель перешел в католицизм, так Шеллинг закончил мистицизмом. С этой точки зрения его биография особенно поучительна.