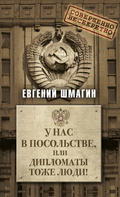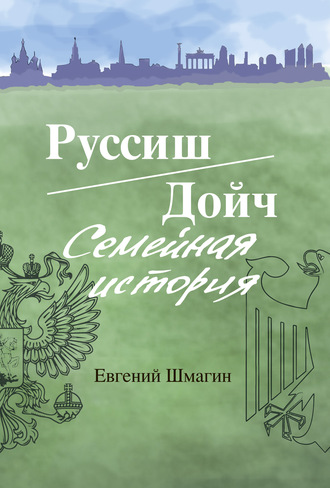
Евгений Шмагин
Руссиш/Дойч. Семейная история
Блохина назначили одним из организаторов исполнения постановления ЦК. За расстрелы поляков он получит очередные орден и звание генерал-майора. Только спустя полтора десятилетия, в 1954 году, в рамках процесса десталинизации, Василия Михалыча в числе первых лишат всех наград и генеральского чина. Но что из этого? В другой мир отойдёт он, в отличие от тысяч своих жертв, в тёплой московской постели.
Если бы не знал Емельян, что представляет собой Блохин, ни за что не заподозрил бы в нём кровожадного убийцу. Милый, добрый, холёный мужчина, пахнущий с головы до ног дорогим «Шипром», с интеллигентной внешностью профессора университета, с ухоженной причёской и руками крепкими, но явно не рабоче-крестьянскими. Он-то и поведал о принятом решении.
Полностью освобождается тюрьма НКВД в Калинине, где планируется прикончить все шесть с лишним тысяч поляков, содержащихся на данный момент в лагере. В посёлке Медное, что неподалёку от Калинина, в настоя-
щее время сооружается большой котлован, куда предполагается «складировать» и затем тщательно закопать трупы. По завершении имеется в виду захоронение сровнять с землёй так, чтобы не оставить никаких следов и не расконспирировать операцию, которой в ЦК придают особо важное значение.
Необходимо основательно продумать все этапы и детали. На руководстве лагеря – полная ответственность за перевозку заключённых в Калининскую тюрьму, естественно, исключительно в ночное время. Соответствующим подразделениям поручено предоставить в необходимом количестве водный, автомобильный и железнодорожный транспорт.
«Слава Богу, – думал Емельян, – что судьба хотя бы таким образом пощадила меня, грешника великого, избавив от исполнения кровавых дел».
В ходе майской, 1940 года, операции, проведённой НКВД в условиях строжайшей секретности, были расстреляны 21 857 поляков, из них 6 311 человек в Калинине и 4 421 человек в Катыни под Смоленском. Это официальные данные из записки, направленной в ЦК КПСС председателем КГБ Шелепиным в 1958 году. Тогдашний главный чекист предлагал уничтожить все материалы «польского дела», чтобы, не дай Бог, мировая общественность не узнала всю правду.
До конца перестройки неугомонный ТАСС, исполнявший в ту пору функции МИДа, твердил о полнейшей непричастности Советского Союза к истреблению двух десятков тысяч польских военнопленных. Вновь и вновь советская пропаганда, при наступательной поддержке армии советских дипломатов, разоблачала «неуклюжую и наспех состряпанную брехню геббельсовых лжецов». Сталин к тому времени уже отошёл в мир иной, а страна продолжала шагать заданным вождём маршрутом.
3 декабря 1940 года, то есть спустя полгода после расстрела поляков, Иосиф Виссарионович принимал в Кремле главу польского правительства в изгнании, генерала Сикорского, прибывшего из Лондона. Того интересовали
много вопросов, но прежде всего судьба десятков тысяч соотечественников, взятых в плен Красной армией в сентябре 39-го. Сталин убеждал, что все эти люди давно освобождены.
– Однако по нашим сведениям, – пытался возразить Сикорский, – они по-прежнему находятся в Советском Союзе.
– Это невозможно, – хладнокровно парировал вождь. – Они убежали.
– Куда же они убежали? – не унимался глава правительства.
– В Маньчжурию, – был ответ.
Глава VI
Нападение Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года Селижаровы восприняли с оторопью.
После советско-германского сближения, начало которому положил Договор о ненападении от 23 августа 1939 г., информационно-пропагандистская машина страны совершила радикальный поворот. «Правда», «Красная звезда» и прочие газеты внезапно сменили тональность суждений о гитлеровской Германии на диаметрально противоположную. Из обихода исчезли привычные «фашисты» и «агрессоры». Вместо них красовались «дружественная Германия» и «германские войска». Кинотеатрам запретили демонстрацию полюбившегося народу фильма «Александр Невский». Сам наркоминдел Вячеслав Михайлович Молотов публично клеймил «близоруких антифашистов», осмелившихся бороться против беспорочного Гитлера, и не стеснялся от имени Советского Союза периодически обнародовать поздравления по случаю взятия Парижа и других «блестящих успехов германских вооружённых сил».
Советские граждане по понятным причинам не располагали сведениями о том, какой душевный ужин состоялся в кабинете Молотова в Кремле в честь очередного
визита Риббентропа. Они ничего не слышали и об исторических тостах, которые в торжественной обстановке произнёс сам великий и непогрешимый Сталин: «За здоровье горячо любимого немецким народом фюрера!», «За здоровье многоуважаемого господина Гиммлера, рейхсфюрера СС, обеспечившего порядок в Германии».
Но и гора цитат в «Правде» из нацистской «Фёлькишер Беобахтер», ещё недавно проклятой в качестве «рупора расистов», и систематическое изложение в советской печати «конструктивных» выступлений Гитлера, и славословия в адрес взаимной торговли – на 200 млн рейхсмарок германского кредита в Союз начали поступать германские станки, а в обратном направлении – отобранное от ртов собственных граждан продовольствие (привет императору Александру III), нефть, металлы, древесина, хлопок для мундиров вермахта, – не оставляли сомнений в том, что в Кремле осознали ошибочность негативного восприятия захвата власти нацистами во главе с их фюрером Гитлером.
Тема «Если завтра война» вроде как начинала звучать, но весьма спокойно, приглушённо, на подпевках. Да и сам термин «война» не обязательно подразумевал Германию. Врагов-то у государства Советов насчитывалось вон сколько. Гадкая Америка, развратная Франция, ветреная Польша – от этих диверсантов исходила угроза даже более опасная, чем от записавшейся в друзья Германии. Поди, целый свет был готов ощетиниться против страны диктатуры пролетариата. В первые месяцы 1941 года в речах руководителей начал как бы между строчек звенеть колокольчик – быть готовым ко всяким неожиданностям. Но за неделю до вероломного нападения вездесущий ТАСС громогласно развеял «нелепые слухи о предстоящей войне». И вот вдруг такое…
Как бы то ни было, ломать голову о том, кто виноват, времени не оставалось. У всех на устах было одно – что делать? Несмотря на отчаянное сопротивление РККА, дезавуированной собственным Верховным командованием, вер-
махт, очередную победу которого пару месяцев назад восхвалял сам Молотов, упорно продвигался вглубь страны.
В Осташкове царила полная суматоха, близкая к панике. Срочно эвакуировали главные ценности – оборудование кожевенного завода. Из Кудыщ вывозили станки с лесоперерабатывающего комбината. Минировали на случай германской оккупации ряд важных хозяйственных объектов, прежде всего работавшую на торфе ТЭЦ «кожевника». Думать о простых гражданах было некому и некогда. Население города фактически бросили на произвол судьбы.
Тем не менее согласно решению обкома ВКП(б) на эвакуацию в Чувашию формировался состав из гражданских лиц – членов семей партийных и иных ответственных работников Осташкова, которые могли бы подвергнуться репрессиям со стороны захватчиков в первую очередь. В список на отъезд в далёкое Поволжье включили Зинаиду Селижарову и её дочь Евдокию. Готовился пойти на фронт сын Максим, как раз получивший почти отличный – с двумя четвёрками – аттестат зрелости в осташковской средней школе № 1.
Сам Емельян практически не бывал дома, разрабатывая варианты действий на случай развития ситуации в неблагоприятном направлении. По заданию центра срочно, по образцу 30-х годов, составлялись реестры неблагонадёжных лиц, которые могли бы добровольно пойти на службу противнику. В контактах со штабом Северо-Западного фронта согласовывались планы на дислокацию осташковского партизанского отряда.
В начале сентября отец и сын провожали на железнодорожном вокзале эшелон, который увозил с самыми скромными пожитками вглубь страны женскую половину семейства. А уже через неделю, 9 сентября, почти весь Осташковский район, в том числе Кудыщи, был оккупирован немцами. Вермахт остановился буквально километрах в пяти от Осташкова. Днём на улицах ещё была заметна хоть какая-то активность. Но к вечеру город замирал, и
казалось, совершил самоубийство, одним махом стряхнув с себя всех обитателей – ни души, ни огонька, ни звука.
Многим такое затишье напоминало 1937 год. Как тогда каждую ночь ожидали у подъезда скрипа шин и светящихся фар «чёрного ворона», так теперь город застыл, трепеща перед предстоящим штурмом вермахта. Сегодня? Завтра? Послезавтра? Силы были явно неравны. Поэтому в приближающейся жуткой встрече с немцами, уже занявшими основную часть европейской территории Союза и вышедшими на северный берег Селигера, сомнений не было.
Но входить в Осташков нацисты не спешили, опасаясь, очевидно, угодить в расставленную для них некую хитрую ловушку. Более того, каким-то странным образом бомбы с германских «Мессершмиттов» упрямо не желали сравнивать город с землёй, а приземлялись преимущественно в озеро, глуша рыбу на радость полуголодным жителям. Родилась даже легенда, будто в Осташкове в предвоенные годы останавливался кто-то из семьи самого фюрера. Посему тот-де распорядился оставить город в целости и сохранности, ибо после войны есть у него план возвести на Селигере одну из своих резиденций.
Обстановка в городе, оказавшемся в полублокаде, накалялась с каждым днём. На исходе были продовольственные запасы. Зашевелились «недобитые». Поползли слухи о том, что на оккупированных территориях, в тех же Кудыщах, немцы бесплатно кормят и поят русское население, не по меню ресторана, конечно, но вполне сносно. Голодухи во всяком случае, как в Осташкове, где по-прежнему командуют коммунисты, там нет.
В родном городе на самом деле выдавали, и то не всем, чуть большие, чем в блокадном Ленинграде, порции чёрного хлеба с добавкой варёного картофеля. Емельян прикидывал, сколько среди 20 тысяч жителей города предложат немцам свои услуги, если вермахт всё-таки решится на штурм. Получалось немало, о чём свидетельствовали и сведения с оккупированных земель.
«Так, стало быть, не слишком ошибались Сталин с Ягодой, Ежовым и Берией, когда начинали зачистки от антисоветских элементов, – размышлял Емельян. – Или, может быть, как раз сталинские репрессии и благоприятельствовали последующему разгулу предательства и коллаборационизма? Какой-то замкнутый чёртов круг получается. Где истина?»
В октябре в районе начал функционировать партизанский отряд. Политруком назначили капитана Селижарова. Однако выполнить поставленные перед ними боевые задачи – по подрыву германских эшелонов с техникой на дороге Полоцк-Бологое, уничтожению живой силы противника и «сжиганию дотла русских деревень на оккупированной территории» в соответствии со знаменитым сталинским приказом № 0428 – партизаны не успели.
9 января 1942 года советские войска на Калининском направлении перешли в наступление. Вермахт отбросили аж сразу на сотню километров к городу Старая Русса, где фронт и застрял до начала 1944 года. Через неделю Осташковский район освободили полностью и партизанский отряд распустили.
Спустя десятилетия четырёхмесячное пребывание в статусе партизана крепко поможет Е.И. Селижарову приобрести статус участника войны с его привилегиями и тем самым, хотя бы для себя лично, исправить допущенную, по его мнению, несправедливость. Разве в тылу советские люди, в погонах и без, трудились, приближая День победы, менее самоотверженно?
Весной 1942 года в действующую армию призвали сына Максима. Емельян Игнатьевич, разумеется, не помнил слова напутствия, которыми отец Игнат Ильич провожал на фронт Первой мировой войны его старшего брата Максима. Но если бы каким-то волшебным образом ему в этот момент представили стенограмму семейного прощания образца 1916 года, он бы сам, наверное, страшно удивился, поняв, что говорит языком отца.
– Максимушка, дорогой ты мой сынок. Вот и твоё время пришло. Сражайся с фашистами с честью. Помни
о своей родине. Об Осташкове и Селигере. Землю отеческую надлежит всеми силами защитить от фашистских банд. Приказы командиров выполняй. Но геройства не ищи. Никакие ордена и медали не заменят жизнь. Человек, а не ружьё, – главный инструмент на войне. Ни к чему лезть грудью на амбразуру. Береги, родной, себя. Помни о нас с матерью, о сестре. А мы каждый день и час будем о тебе помнить. Тебя ждать. Потому что, убеждён, предстоит тебе, Максим Емельяныч, долгая и счастливая жизнь.
В последующие полгода получил Емельян с фронта несколько писем от сына.
«Пишу тебе, дорогой папа, из-под Новгорода. Сам жив, здоров… Настроение великолепное. Вчера был на редкость удачный день. Удалось подбить два немецких бомбардировщика. Получили, стервятники, по заслугам… Ребята кругом – из разных мест. Нашенские тверские тоже попадаются. Люди разные. Но все как один за родину честно сражаются… Сообщаю адрес, по которому мне можно будет писать: действующая Красная армия, полевая почта…, красноармейцу Селижарову».
«Получил, дорогой папа, твоё письмо. Большое спасибо. Рад, что у тебя всё в порядке. Что жизнь в Осташкове постепенно восстанавливается… Очень хорошо, что сообщаешь о маме и сестре Дусе, находящихся в эвакуации. Я по ним очень скучаю. Думаю, они скоро возвратятся, ведь немцев далеко отбили. Пожалуйста, дай им мой адрес. Пусть они мне пишут напрямую. А я им тоже напишу, как будет время… Обо мне не беспокойся. Здоровьем, как ты знаешь, селижаровское семейство не обделено».
«Здравствуй, дорогой папа! У меня без особых перемен. Бьём фашистов, но они, гады, сопротивляются. Наш боевой дух не сломить… Перед глазами часто встаёт отчий дом в Осташкове, школа (не слышал ли чего про моих одноклассников?), озеро Селигер, наши, пап, с тобой поездки на моторке… Как рыбачили, помнишь? Ещё судака на семь кило поймали… А как ходили в ноябрьские праздники на демонстрации, песни пели! Потом мама празд-
ничный стол накрывала… Вот здорово было… А сейчас вся жизнь рассыпалась. Что ж ты, война подлая, наделала? Кругом мрачная, грозная казарма, окопы, стрельба и много людей, которых я не понимаю… Везде ночь, треск немецкой морзянки, голод, непогода, смерть…».
Осенью тяжелейшего 42-го года постучалось в дом Емельяна страшное известие. Военные командиры его драгоценного сына без всякой сентиментальности сообщали, что рядовой Селижаров попал в окружение противника и поэтому в донесении о безвозвратных потерях такой-то части учтён как пропавший без вести.
«Проклятие какое, что ли, лежит на нашем семействе? – убивался Емельян, в который раз перечитывая полученную бумагу в штампах. – Опять „без вести" и снова Максим. Знать, не зря, ох не зря умные люди отсоветовали давать сыну имя погибшего старшего брата. Не послушался, не послушался, вот и нести мне теперь этот крест по жизни».
Сообщение о «без вести пропавшем» ещё, правда, не означало гибель любимого сына, но ничего хорошего тоже не сулило. Кому, как не Емельяну, было знать об отношении родного социалистического государства к соотечественникам, угодившим в германский плен. По завершении Первой мировой большевики, захватившие власть, помнится, с распростёртыми объятиями встречали возвращавшихся из плена солдат. Теперь же вождь, как в годы Первой мировой царь, распорядился априори считать всех пленённых потенциальными изменниками и продажными шкурами, желающими выдать врагу секретную информацию о дислокации войск и, главное, настроениях в народных массах.
В ту пору Емельян ещё не знал, что к концу войны число военнослужащих Красной армии, оказавшихся в германском плену, перевалит за пять миллионов. Но как бы то ни было, формулировка «без вести пропавший» всё-таки оставляла надежду на то, что когда-нибудь после войны заявится в Осташков Максим Емельяныч, если и не целый и невредимый, то по меньшей мере живой. С уд-
военной энергией стал отец дожидаться окончания этой подлой, как метко выразился сын, войны.
Где тонко, там и рвётся. Точь-в-точь с этой народной пословицей прилетела в селижаровское жилище ещё одна печальная весть. Под новый год почтальон принёс срочную телеграмму из Чувашии: «Папа срочно приезжай мама тяжело заболела Дина».
Долго упрашивал Емельян начальство отпустить его на неделю проведать жену.
– Военное время, не положено, – отвечали, – да и тащиться в одну-то сторону придётся тебе несколько суток, можешь задержаться на длительные сроки, а нам отвечать?
Но в конце концов сжалобились, отпустили.
Почти 5 дней добирался Емельян в Поволжье, до незнакомой деревни Верхняя Кумашка, где согласно эвакуационному предписанию разместили его семью, – 100 км от столицы Чувашии города Чебоксары, 15 км от железной дороги. Выяснилось, что любимая его жёнушка не просто захворала, а подцепила особо заразную болезнь – брюшной тиф в тяжёлой форме. И немудрено. С детских лет приучала Авдотья сына к чистоте. Знал он, что далеко не во всех соседних домах наведён такой же порядок – чистоплотностью русская деревня в те годы не отличалась. Но антисанитарию, что бросилась в глаза в поселении, где были расквартированы его родные, в жизни видеть ему ещё не приходилось.
Случись эта жуткая болезнь в Осташкове, Зинушку дорогую скорее всего можно было вылечить. Здесь же ни лекарств, ни врачей не было. Господствовало зато вполне понятное озлобление по отношению к переселенцам, нарушившим вековой уклад жизни. Фельдшер из соседней деревни диагностировал вначале пищевое отравление. А когда доктора из райцентра Шумерли удалось-таки завлечь, было уже поздно. Да ведь и приучали медиков скрывать самые вредоносные заболевания, чтобы не вызвать панику, не расстраить благоприятную картину счастливой жизни – даже в военное время.
Зина угасала на глазах, и Емельян чудом успел на прощание с самым любимым человеком его жизни. Держа жену за руку и глядя ей в глаза, он долго-долго рассказывал ей об Осташкове, о храбрых, доблестных сражениях их сынка Максима с германскими фашистами. Вспоминал, как они познакомились в «пьяном чекистском походе», как проводили «медовый день» на Кличине, как обживали квартиру на Карловке, бывшей Купеческой, как радовались школьным успехам детей, как тайком шептались на кухне и муж разбалтывал, ради интересов понимания супругой, маленькие государственные тайны.
Не обладавший голосом, но обожавший задушевные мелодии, Емельян отважился даже пропеть милой жёнушке строки из их любимой песни про то, как приходят и уходят годы, появляется седина на висках, но, когда взгрустнётся на сердце, двум родственным душам хочется обняться, взглянуть друг другу в глаза и оживить нежность той первой незабываемой ночи, память о которой они пронесли через все испытания, подброшенные жизнью.
На следующий день после приезда мужа Зина умерла. Отец передал дочери единственную семейную драгоценность – узенькое золотое колечко, которое когда-то приобрёл в подарок любимой женщине на накопления первых трудовых лет. Похоронить супругу пришлось здесь же, на местном кладбище в далёкой Чувашии. Забрав дочь, возвратился Емельян в Осташков. Но с далёким местом захоронения своей любимой Зиночки он не смирится. Когда представится возможность, перевезёт прах супруги поближе к своему месту жительства, завещав дочери обязательно положить себя в землю рядом с женой.
После того, как немцев отбросили на пару сотен километров, в Осташкове постепенно, шаг за шагом, стала возрождаться жизнь. Восстанавливались кожзавод, торфодобыча, рыбзавод. Началось строительство более мощной ТЭЦ. Вновь запускались мебельное, швейное, верёвочное и бондарное производства. Заработали артели «Красный кустарь», «Красный утильщик» и «Красный булочник».
Дуся-Дина, которой исполнилось 17 лет, захотела работать парикмахершей, чему она немножко научилась в эвакуации. А когда открылись школы, пошла доучиваться в десятый класс. Стала она девушкой привлекательной во всех отношениях – точёная фигурка, папины льняные волосы и мамины карие глаза. В мирное время заглядывались бы на неё все парни. Да только сейчас они в городе почти отсутствовали.
В обязанности Емельяна входило всестороннее поддержание в городе и районе порядка, поиск шпионов рейха и предателей, начавших было сотрудничать с оккупантами на временно занятых вермахтом территориях. В инструкциях, поступавших на этот счёт из центра, кажется, впервые не устанавливались квоты отлова тех и других.
После утраты жены и пропажи без вести сына возненавидел он немцев в десятикратном размере. Это они, агрессоры, виноваты в том, что лишился он двух самых любимых людей. Ему хотелось самому строчить из пулемёта, сбрасывать бомбы, давить танками и стрелять из артиллерийских орудий по всем этим мерзким человеконенавистникам. Но шансов попасть на фронт у капитана госбезопасности не было.
«Никогда, никогда, и через 50 лет, не будет им прощения за зверства, причинённые нашей стране и нашему народу, – думал Емельян. – И я сам как советский человек должен взять на вооружение абсолютно справедливый призыв Ильи Эренбурга „Убей немца!" Я должен что-то предпринять, чтобы лишить жизни хотя бы одного фашиста. Я обязан внести личный вклад в нашу приближающуюся победу».
Как и все советские люди, уполовиненная семья Селижаровых в нужные часы спешила к репродукторам, чтобы услышать сводки новостей с фронта, сообщаемые мощным голосом Левитана. Они наконец-то становились всё более оптимистичными. Оказавшийся в глубоком тылу Емельян уж было потерял надежду на личное отмщение германскому отродью, как вдруг сама судьба решила предоставить ему эту уникальную возможность.
В конце 1943 года в Управлении по делам военнопленных и интернированных при НКВД, за последние 4 года резко увеличившим масштабы своей деятельности, вспомнили об Осташкове. Концлагерь в Ниловой пустыне, где нашли свой последний приют тысячи поляков, закрыли ещё летом 1940 года, сразу после расстрелов, и тщательнейшим образом замели следы их пребывания. Но, очевидно, воспоминания о крупнейшем месте заключения польских военнопленных сохранились. В окрестностях Осташкова решили создать лагерь № 41 для немцев и граждан других государств, воевавших против СССР, на 5-7 тысяч человек. Выбор пал на небольшой посёлок торфо-разработчиков на берегу озера в трёх километрах от райцентра. Рядом проходила железная дорога, что было удобно для приёма и отправки «спецконтингента».
Емельяна повторно назначили заместителем начальника, и он в течение нескольких недель в поте лица трудился над возведением хорошо знакомой инфраструктуры – ограда, бараки, нары, прожектора, вышки и прочее. Отдельный вместительный, на 400 заключённых, спецбарак строился прямо на территории кожевенного завода. Изначально предполагалось, что часть военнопленных будет задействована на самых вредных участках этого флагмана осташковской промышленности.
Уже в первые месяцы 1944 года в лагерь доставили 5 тысяч немцев и пару десятков румын, латышей и чехов. В конце года из Москвы приказали отвести в лагере отдельный специализированный участок для приёма особой категории. «Особистами» оказались почти две с половиной тысячи поляков, воевавших на стороне Армии Крайовой. Эту военную организацию польского Сопротивления, боровшуюся с нацистами Гитлера под руководством правительства Сикорского из Лондона, в Союзе рассматривали как махровую антисоветскую, и её активисты подлежали аресту и изоляции. Во второй раз за время войны Осташков становился могильщиком военной элиты республики Польши и символом советско-польской размолв-
ки. Размолвки, которая впоследствии отбросит длинную и мрачную тень на отношения двух государств на многие десятилетия.
Крайняя озлобленность Емельяна в отношении фашистов из Третьего рейха и решительный настрой последовать зову Эренбурга неожиданно для него самого стали уступать место совершенно другим чувствам. Тем, которые он уже ощутил, общаясь с поляками в Ниловой пустыни. В 41-й лагерь прибывали немытые, вшивые, истощённые, обветшалые, сломленные духом, постоянно твердившие «Гитлер капут» мужики всех возрастов, очень похожие на селижаровских сельчан времён «царь-голода».
По сравнению с Ниловой пустынью новое прибежище для военнопленных было обустроено с чуть большим «комфортом» – двухъярусных нар хватило на всех, спать на полу или земле никому не пришлось. А вот со всем другим хозяйственным обеспечением стало ещё хуже.
Сам Осташков фактически влачил полуголодное существование. Вражеские бомбы больше не глушили селигерскую рыбу, а вся продукция местного рыбзавода по разнарядке распределялась на фронт и важные объекты за пределами области. Спасали остатки продуктов с крестьянских хозяйств, которые по лихим ценам предлагались на местной толкучке – главном месте встреч простых смертных с криминалом. Военное время озолотило немало советских граждан.
Что же говорить про питание пленных! Ежедневный продовольственный паёк, установленный циркуляром НКВД (600 г хлеба, 500 г овощей, 100 г мяса или рыбы и т. д.), никоим образом не мог обеспечиваться по объективным причинам – вследствие отсутствия продуктов. Кормили раз в день – 100 граммов ржаного хлеба, суп из крапивы, квашеная капуста и кусок селёдки. За лишнюю тарелку супа между пленными разворачивались настоящие битвы. Вкупе со скудным рационом питания весьма тяжёлым был труд на торфо- и лесозаготовках, как и на ядовитом кожевенном производстве, оплачиваемый 7 рублями
в месяц (килограммовая буханка хлеба стоила 150 рублей, пачка сигарет «Казбек» – 75 рублей).
И всё-таки Осташков, согласно рассказам самих военнопленных, выгодно отличался от многих других из 2 тысяч мест заключения, в которых содержались 3 миллиона пленённых немцев и где от голода и физического истощения помирали даже крепыши. По меньшей мере случаев людоедства, как это происходило, по свидетельствам очевидцев, в других лагерях, здесь не было.
Емельян, никогда не сталкивавшийся с особенностями немецкой натуры, с удивлением наблюдал, как пленные по собственной инициативе вылизывали территорию лагеря, мастерили скамейки и беседки, разбивали клумбы, благоустраивали быт в бараках и в целом трудились на совесть. Те, кто стремился выучить русский язык, никак не могли понять значения слова «халтура». Среди прочего выяснилось, что поют немцы не хуже русских и на губных гармошках совсем неплохо исполняют русские мелодии.
Неслужебные отношения пленных с местным населением строго воспрещались. Однако чувствительные русские люди, сами жившие впроголодь, проявляли исконно национальное милосердие, норовя всучить исхудавшему немцу картошину, огурец или горстку семечек. Емельян и некоторые другие охранники смотрели на это общение сквозь пальцы, а иногда и подбадривали.
– Удивительное наше русское племя, – заговорил как-то Емельян с дочерью. – Такая сокрушительная война, развязанная против нас ни за что ни про что немцами! Такое изуверство, которое не поддаётся прощению! Закончится война, подсчитают потери, ахнут все. Сколько людей наших истребили – и не случайно, не просто так, «на войне как на войне», а специально, сознательно! С особой изощрённостью искоренить нас хотели! И что видим? Война вот-вот закончится, а мы уже милость к падшим проявляем. Память у нас, что ль, короткая?
– А мне, пап, такое отношение кажется вполне нормальным, – отвечала Дина. – Да знаю я, что и ты так же
думаешь. Узников своих сам ведь жалеешь. Немцы простые, что у тебя в лагере сидят, они разве виноваты? Ведь этих мальчишек насильно воевать заставили. Гитлер с Герингом и Геббельсом войну развязали. Вот им пощады и не должно быть. Как и всей зловонии «третьего рейха». Да и забыть случившееся ни у кого, конечно, не получится. И через 20, и даже через 50 лет… А вот другой вопрос, отец, к тебе. Сами-то мы ни в чём не виноваты? Скажи хотя бы на милость, зачем мы с немцами накануне войны братались?
– Эко, девонька, куда ты загнула. Думаю, что не тебя одну этот вопрос мучает. Но вот что скажу тебе – не будет на него вразумительного ответа даже спустя годы и десятилетия, – задумчиво произнёс Емельян. – Да ещё совет дам толковый. Никогда не заикайся ни в какой компании по этому поводу. Ни в одном разговоре. Чует сердце моё, что война с врагами народа ещё не закончена. И как бы нам с тобой, доченька, не попасть под колёса той машины, которая мне, к сожалению, до боли знакома.
В марте победного 1945 года в соответствии с указаниями часть пленных была переведена в другие лагеря. На их место доставили новую партию. В шеренге вновь прибывших Емельян приметил стройного симпатичного парнишку чуть постарше лет двадцати, внешностью чем-то жуть как напоминавшего старшего брата Максима. Те же голубые глаза, те же белобрысые волосы, высокий рост, широкие плечи. Истинный ариец, как о тех с издёвкой писали в «Крокодиле».
Немецкий юноша чрезвычайно заинтересовал замначальника лагеря. Дома Емельян поведал о новичке дочери, и та попросила отца показать молодого немца ей самой. Дина знала погибшего родственника только по той единственной фотографии 1916 года. В унисон с отцом она не могла, глянув на пленника, сдержать удивление – на самом деле вылитый её дядя с памятного снимка. Ну, может быть, не совсем точная, но очень, очень похожая копия отцова брата.
В последующие дни политрук Селижаров проводил, как положено, индивидуальные беседы с вновь прибывшим контингентом. На одной из них в комнате совершенно случайно оказалась его дочь. Интересовавший их военнопленный по имени Буркхардт и с ещё более каверзной фамилией вполне сносно лопотал по-русски – выучился за два года скитания по лагерям. Родился он в западной части Германии на берегу главной реки страны с названием Рейн. Отец – столяр. Этот факт Емельяну понравился особенно. Буркхардт поступил в университет, когда началась война с Советским Союзом. Учёбу пришлось прервать из-за призыва на Восточный фронт. Через несколько месяцев во время боя его контузило, и таким образом он попал в советский плен.
– Когда я очнулся, – рассказывал немец, – то первым делом увидел перед собой красное смеющееся лицо советского солдата. «Так ты, фриц, оказывается, жив», – произнёс он. Я подумал, что всё, пришёл мой конец и сейчас меня добьют. Но солдат неожиданно достал санпакет, перевязал мне рану на голове и добродушно изрёк: «Вот, братец, смотри, как тебе повезло. Для тебя война навсегда кончилась. А мне ещё воевать и воевать».
С того дня для Емельяна с дочерью молодой немецкий пленный, которого они на русский лад нарекли Борисом, стал кем-то вроде сына и брата. Себя Емельян для удобства произношения разрешил называть «дядя Миша». Советский капитан, заместитель начальника лагеря беззастенчиво злоупотреблял служебным положением. Чуть ли не ежедневно вызывал он немца в свой кабинет.