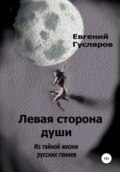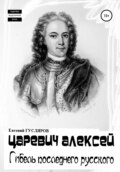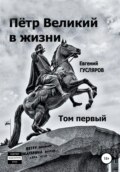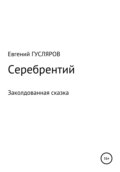Евгений Николаевич Гусляров
Русские отцы Америки
Справедливости ради надо заметить, что над разработками винтокрылых аппаратов, о которых мечтали ещё Леонардо да Винчи и Михайло Ломоносов, немало и с успехом потрудились многие другие русские эмигранты: Д. Рябушинский, В. Маргулис, Н. Махонин во Франции в 20–30-е годы; Николай Флорин в Бельгии в 20–40-е годы; Г. Ботезат, К. Захарченко, А. Никольский и др. в США в 30–50-е годы. Да и саму одновинтовую схему, которую Сикорский довёл до классического состояния, предложил ещё за тридцать лет до того другой замечательный русский конструктор – Б. Н. Юрьев. Недаром Сикорский, как никто другой знавший историю вертолёта, в кругу семьи не раз и не два настойчиво напоминал: «Вертолёт – это русское изобретение».
А свои вертолёты он придумал, чтобы спасать людей, попавших в гибельное положение. «Ангелами-спасателями» называл он собственные машины. Грянула новая всемирная война и машины Сикорского, как ни одно из тогдашних технических и научных достижений, послужили именно спасению людей. Его вертолёты, их в этой войне было четыреста, стали летающими госпиталями, искали раненых, были связными между линией фронта и тылом. Он гордился ими, своими небесными ангелами, больше, пожалуй, чем собственными детьми, торжественно и подробно записывал в специальный журнал все случаи, когда его машины спасали человеческие жизни. И протестовал, когда, например, во время корейской войны его вертолёты превратили в боевые машины и «научили» убивать. «Я этого не придумывал, меня даже не спросили», – скорбно повторял он и показывал своим детям тот самый журнал. – «Вот, смотрите…».
И сын его, наследник всего дела Сергей, о котором мы тут не раз упоминали, продолжил этот журнал. Он утверждает, что благодаря машинам, построенным его отцом, были спасены более миллиона тех, кто оказался в экстремальных и безвыходных обстоятельствах. Вертолёты Сикорского выручали из беды в Японии, Индии, Италии и многих других странах мира. Для этих героических спасателей учреждена теперь специальная премия имени Игоря Сикорского…
«Я больше не вижу звёзд…»
Он увлекался астрономией, имел даже свою маленькую обсерваторию. Наблюдать движение и жизнь звёзд было любимым его занятием. Там, в обсерватории он оставался наедине с небом и мог думать о том, чему условия его напряжённого технического творчества мешали бы, конечно.
В последние годы жизни Сикорский стал терять зрение. Однажды «вернувшись домой из обсерватории подавленным», как вспомнил опять же старший его сын, «он сказал с печалью в голосе: “Я больше не вижу звёзд“». Он перестал видеть звёзды, но внутреннее его зрение от этого, надо думать, не ослабло…
Его машины летали на высоте в пять тысяч метров. Для полёта его мысли этого было мало. Внук священника он всегда отличался самой искренней и горячей верой в Бога. На его предприятиях, даже в периоды кризисов и безденежья, всегда действовал небольшой православный приход со своим настоятелем. Один из этих священников, отец Степан Антонюк, достигнет выдающегося положения в зарубежной православной церкви, станет Епископом Западной Канады Иоасафом. Сам же Игорь Сикорский, отойдя от дел, с головой погрузился в богословие и написал несколько глубоких трудов, ставших авторитетными даже в среде священнослужителей и иерархов церкви: «Невидимая встреча», «Эволюция души», «В поисках высших реальностей», «Небо и Небеса», «Отче Наш, размышления о молитве Господней». В этих книгах он настойчиво проводит мысль, что человек с неразвитой душой не в состоянии будет справиться с теми искушениями, которые даёт ему развитый прогресс. Всякое научное достижение даёт нам теперь две возможности пользоваться им – во имя зла и во имя добра. Он предупреждает: «Если тот или иной вид высокоорганизованных животных или человеческий род не достигнет в своём внутреннем развитии такой высоты чувств и побуждений, которые необходимы при уровне уже достигнутого им умственного развития, то он обречён на деградацию или вымирание». Важнейшую воспитательную роль, которая в сильнейшей степени влияет на нравственное совершенство человека, на эволюцию его души он видит только в следовании заповедям Христовым. «Наука, – писал он ещё, – нейтральна. В этом её беда. Она одинаково нейтральна к добру и злу. Человечество должно относиться к науке очень осторожно». «Если, – говорит в другом месте Сикорский, – миром будут управлять духовно мёртвые люди, то его можно сравнить с самолётом, которым управляет несознательный и неопытный экипаж». Ещё вот что стоило бы запомнить из того, что он написал: «У мира, который полагается только на материальную сторону в ущерб духовной, нет будущего. Человеческое общество, которое безрассудно занимает неверную позицию в высшей битве между правдой и ложью, между Богом и сатаной, само обрекает себя на гибель». Книги с подобными предупреждениями человечеству потихоньку приходят теперь и на родину Сикорского, в Россию.
Шляпа по имени Федора
Выше я говорил уже, что свои машины Сикорский испытывал обычно сам. За штурвал он садился в рубашке с галстуком и в шляпе, которую называл женским именем Федора. Своё название шляпа получила из одноимённой пьесы француза Викторьена Сарду, которую поставили на Бродвее в 1882 году, в честь её главной героини – принцессы Федоры. Правда, изначально так именовали только женские шляпы. И только с 1919 года Федорой стала называться мужская шляпа популярная в мире и сегодня. А тогда, в годы, когда в Нью-Йорке только появился Сикорский, она являлась самым излюбленным аксессуаром в облике представителей американского среднего класса. Если пересмотреть, например, фильм «В джазе только девушки», то можно заметить, что и гангстеры там и сыщики в штатском, да и все штатские тоже носят именно Федору. Шляпа этого покроя придавала шик самому незначительному лицу. Сикорский никогда не был особенно высокого мнения о своей внешности, потому так и ценил свою Федору. Рассказывают, что после нескольких аварий, в которых Игорь Иванович остался цел и невредим, за шляпой закрепилась репутация талисмана, приносящего удачу. Теперь эта знаменитая шляпа вместе с его первым вертолётом хранится в музее Смитсоновского института в Америке в числе самых чтимых экспонатов. С ней теперь связано вот какое поверие. Пилоты фирмы перед первым полётом приходят в музей, чтобы прикоснуться к шляпе – на счастье. Подобная традиция прижилась и в Киевском политехе, в котором когда-то учился Сикорский, только тут студенты прикасаются к шляпе бронзовой. Дело в том, что на территории института есть памятник Сикорскому с этой самой Федорой в руках. Перед экзаменами студенты приходят к памятнику, чтобы прикоснуться к шляпе, от которой ожидают удачи.
«Он всю жизнь летал против ветра…»
Игорь Иванович Сикорский скончался 26 октября 1972 года во сне. Жена обнаружила его навеки уснувшим со скрещенными на груди руками. И по виду, и по смыслу всей его жизни, это была смерть праведника.
В день похорон над кладбищем должны были пролететь почётным строем вертолёты, потому те, кто пришли проводить Сикорского в последний путь, конечно, смотрели в небо. И вдруг там, гораздо выше редких прозрачных облаков, появился огромный серебристо-белый крест. Это пресеклись инверсионные следы двух реактивных самолётов. А под ним проплывали вертолёты Сикорского, отдавая последние почести своему создателю… Те, кто были тогда на кладбище, говорили потом, что у них возникло такое чувство, что великий человек не в земле будет покоится, а вот уже сейчас поднимается к тому, с кем готовился беседовать всю свою жизнь.
Надпись на надгробии Игоря Сикорского на кладбище святого Иоанна в Стратфорде такова: «Редко когда мечты дальновидного человека воплощаются в действительности. Ещё реже дальновидный человек приносит благо другим, осуществляя своё призвание. Таким человеком был Игорь Иванович Сикорский, пионер воздухоплавания, отец вертолёта, изобретатель и философ». Надпись хорошая и исчерпывающая. Но длинноватая, наверное. Вспоминается, что один наш великий полководец хотел, чтобы на его могиле было написано: «Здесь лежит Суворов». И Сикорскому, пожалуй, хватило бы таких же слов.
Ещё несколько штрихов к портрету
И тут самое время несколькими штрихами набросать окончательный его портрет, каким он сформировался в памяти тех, кто его знал. Портрет, в котором основной карандаш и окончательная кисть – память. И как-то уж вовсе замечательно, что что даже те штрих его портрета, которые мы обычно относим к мелким, необычайны и значительны в приложении к этому человеку. Это и есть самое подлинное и окончательное, что остаётся от человека. Ведь большего он уже ничего не добавит о себе.
Среднего роста, в общении мягок, говорят, что и застенчив даже. Но был неожиданно могуч мускульной своею силой.
Очень любил физический труд, называл его «спасающим душу». А нравственною силой вообще был богатырь.
Любил путешествовать, объездил на машине всю Америку, побывал во многих странах мира. Увлекался альпинизмом, покорил многие пики Америки и Канады. Особой его любовью были вулканы – «могучий и величественный феномен природы», как говаривал Сикорский.
Если уставал от общения, а это бывало часто, уезжал куда-нибудь подальше от городской суеты.
Кто-то однажды, не зная его в лицо, спросил, с кем имеет честь говорить. Он растерялся и сказал: «Я работаю “у Сикорского”».
Между тем, о нём говорили, что он всю жизнь «летал против ветра». И это тоже было правдой.
Никогда в жизни он не повысил голос ни на детей, на жену. Если у него не спрашивали совета, он никогда и ни к кому, даже к детям, с этими советами и не лез.
Он больше слушал, чем говорил.
Однажды Главный конструктор пришёл в КБ без пропуска. Новый вахтер остановил Сикорского. Игорь Иванович вежливо сказал строгому блюстителю порядка, им же установленного: «Спасибо, что вы мне напомнили» и… поехал за пропуском домой, хотя это отняло у него час времени.
Обходя цеха, главный конструктор, как бы ни был занят, по старой петербургской привычке находил время поговорить с рабочими, поинтересоваться у каждого их проблемами и настроением. Помогал, чем мог, если кто-то говорил о нуждах. Рабочие любили Игоря Ивановича. Это был редкий для них стимул делать хорошо своё дело для хозяина-капиталиста.
Домашним языком в семье был русский. В семье читали вслух классиков. Особенно любили Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Некрасова. Родители старались привить детям любовь к русской культуре.
Сикорский внушал детям: «Вы будете гордиться тем, что у вас русская кровь».
Игорь Иванович хорошо играл на рояле. Все удивлялись этому, ведь у него совершенно не было времени для музыкальных упражнений. Любимыми композиторами были Рахманинов и Чайковский.
Сикорский говорил – если человек богат внутренне и духовен, то он и творит лучше, будет создавать прекрасное, чем бы ни занимался.
И ещё он говорил: «Труд удаляет от нас три главные несчастия: скуку, порок и нужду. Будем обрабатывать наш сад, – это единственное средство сделать нашу жизнь сносной».
Приходил он домой поздно и всегда, каким бы ни был усталым, садясь за стол, ласково говорил жене: «Лилечка, милая! Подавай-ка мою любимую…». А самым любимым блюдом у него была жареная картошка.
«К слову, – скажет сын Сергей, – в нашей семье до сих пор все очень любят украинский борщ и вареники с разной начинкой».
Сикорский никогда не ставил свою машину, приехав на работу, перед главным входом в офис компании, или в месте, специально отведённом для начальства. Он всегда устраивал свой достаточно скромный «фольксваген» среди машин, принадлежавших заводским рабочим и служащим.
По словам одного из заводских рабочих, «у него были манеры человека из Старого Света. Во время знакомства он прищёлкивал каблуками и кланялся. А если это была женщина, он также целовал ей руку».
Уходя из офиса домой, он всегда тепло пожимал руку своей секретарше, которая проработала с ним многие годы, и говорил: «Спасибо, Катюша, вы мне очень помогли». В Америке ему ставили в вину то, что он всегда был демонстративно русским. Нет, он не кичился своей национальностью. Просто он всегда помнил о своей принадлежности к Великой России, и это чувствовал каждый. Вот и на работу он предпочитал брать эмигрантов только из бывшей Российской империи, даже тех, кто до того не имел никакого отношения к авиации. Простым рабочим на фирме был, например, адмирал Б. А. Блохин, а известный историограф белого движения казачий генерал С. В. Денисов готовил свои исторические исследования, работая у Сикорского ночным сторожем. Всего же более ста бывших российских подданных нашли здесь работу и получили специальность.
Он много сделал для русской колонии в Стратфорде, где был головной офис фирмы Сикорского. С его помощью здесь открыли клуб, школу, построили православный храм Святого Николая и даже создали русскую оперу. Занятно, что многие русские эмигранты, жившие в этом городе, так и не овладели английским. Там было всё, чтобы русский язык оставался родным и необходимым. Эти выходцы из России так прекрасно тут себя зарекомендовали, что при образовании новых предприятий, лица их финансировавшие ставили условием, чтобы половина инженеров и рабочих – были русские. Та духовная атмосфера, атмосфера творчества и бескорыстия, трудового подвижничества, основанная не на голом увлечении наживой, а на умении видеть всем вместе высокую цель, поставленную сообща, была непонятна американцам, но и вызывала почтительное удивление. Русскими тут восхищались.
Сикорский никогда не симпатизировал коммунистическому режиму. Но в то же время он был предельно корректен в суждениях и никогда не призывал ни мстить, ни насильно возвращать то, что было утеряно. В 1938 году, выступая на собрании, посвященном 950-летию крещения Руси, Сикорский говорил: «Русский народ должен подумать не о том, как повернуть назад, к тому, что не устояло, – видимо, не уберегли, – а подумать о том, чтобы из того болота, в котором мы теперь увязли, выбраться на широкую дорогу, чтобы двигаться вперёд».
Игорь Сикорский верил в будущее России, верил в её возрождение. «Нам нужно работать, а главное – учиться тому, что поможет нам восстановить Родину, когда она того от нас потребует», – говорил он, обращаясь к соотечественникам-эмигрантам. Это бы и всем нам не мешало помнить.
Не сдержал он своего слова один только раз. И случай это особо поучительный и даже особо актуальный в связи с антитабачной кампанией, развернувшейся сегодня в России. Вот как эту историю рассказывает другой сын Сикорского Николай, музыкант и крестник Рахманинова. Из этого рассказа следует, что некий фермер небольшого селения Парикутин прибежал однажды к своему священнику и с ужасом стал рассказывать, будто бы из-под земли дьявольские силы выбрасывают пар на его кукурузное поле. Священник решил, что фермер серьезно перебрал, и с молитвой отправил его домой. Однако никакого чуда и выдумки в этом рассказе не оказалось. Просто рождался новый вулкан в самом неподходящем месте. И вот этот вулкан стал для великого изобретателя любимым местом паломничества, особенно в те захватывающие моменты, когда происходило очередное грозное извержение. В шутку ли, всерьёз ли, Игорь Иванович торжественно пообещал, что бросит курить, как только прикурит сигару от куска раскалённой лавы в жерле этого вулкана. И зелье это дьявольское, и способ прикурить тоже не совсем естественный. Неизвестно ещё, кто это там шурудит, в той подземной кочегарке. Настойчивости ему было не занимать, и ему удалось-таки прикурить от опасного огня. Но курить он так и не бросил. Даже этому сильному во всех отношениях человеку, дурная привычка не поддалась. Что уж говорить о нас, грешных.
Грустно мне немножко стало, когда я собрал небольшую даже часть того, как американцы вознесли русского великого человека Игоря Сикорского. Они, что справедливо, конечно, считают его своим национальным гением и отводят ему важнейшее место в истории американского ХХ века. В Национальном Зале Славы Изобретателей его имя значится наряду с именами Луи Пастера, Альфреда Нобеля, Томаса Эдисона, братьев Уилбера и Орвила Райт, Генри Форда, Уолта Диснея, Чарльза Линдберга, Энрико Ферми … Почётная медаль Джона Фрица «За научно-технические достижения в области фундаментальных и прикладных наук» в области авиации была присуждена только двум людям – Игорю Сикорскому и Орвиллу Райту. А мы как-то лениво и не очень любопытно вспоминаем о том, что он считал себя русским, и тем хотел добавить свою толику гордости в наше общее национальное самосознание…
И последнее. В августе 2012 года на поверхность Марса высадился аппарат «Curiosity» для подробного изучения этой планеты. Тем ознаменовалось новое гигантское достижение человечества. Как выяснилось, главная деталь в процедуре посадки нового марсохода, реактивная платформа, была разработана Игорем Сикорским ещё пятьдесят лет назад. Он уже тогда использовал эти платформы для десантирования тяжёлой военной техники с грузовых вертолётов. Вот и теперь, оказалось, главные победы человечества без Сикорского не возможны…
Использованная литература
Михеев В. Р. Игорь Иванович Сикорский: герой, изгнанник, отец авиации. «Природа» № 9. 1998
Самые знаменитые изобретатели России. Сб. М., «Вече». 2002.
Воспоминания об И. И. Сикорском. Журнал Православие и мир. № 17 май – июнь 2010 г.
О вещем сне изобретателя. О. Сметанская. «Факты» (Москва). 31.05.2012
Финне К. Н. Русские воздушные богатыри И. И. Сикорского. – Белград, 1930.
В.Маевский. Игорь Сикорский. http://rus.ruvr.ru/2010/08/26/17320267/
И. И. Сикорский. Воздушный путь Нью-Йорк. 1920
Катышев Г. И., Михеев В. Р. Крылья Сикорского. М.: Воениздат, 1992
Сикорский в Новой Англии. Алекс Д. Портнягин, проф., США. Опубликовано на
сайте Усадьба Урсы. Клуб любителей переводов.
Архиепископ Иоанн (Шаховской). Книга свидетельств. Нью-Йорк, 1965
* * *
На этом пока можно бы и остановиться. Рассказ о вкладе русских эмигрантов в жизнь Америки, Европы и прочего мира можно продолжить до бесконечности. И он не лишится от того горькой своей занимательности. Подсчитано, что сразу после 1917-го года за рубежом оказалось около 2.5 миллионов изгнанников из России. Каждый из них стоил бы отдельного нашего рассказа. Ведь в этом числе большая часть интеллектуальной элиты дореволюционной России. Люди с мировыми именами – писатели Бунин и Куприн, певец Шаляпин, композитор Рахманинов, актриса Ольга Чехова, крупнейший голливудский композитор Дмитрий Тёмкин, основатели двух ведущих школ мирового балета Михаил Фокин и Джордж Баланчин, номинировавшийся на Нобелевскую премию сибирский писатель Георгий Гребенщиков, «эйнштейн лингвистика» Роман Якобсон, корифей немого кино Иван Мозжухин, непобедимый шахматный чемпион Алёхин. Россия потеряла громадное количество первоклассных специалистов. Дипломированных инженеров, например, среди эмигрантов только первой волны насчитывалось около трёх тысяч. О качестве людей, ставших ненужными тогдашней России, говорит тот факт, что восемнадцать человек, получивших образование на территории Российской империи и оказавшихся в изгнании, стали лауреатами Нобелевской премии.
Вот один из таких лауреатов – Саймон Кузнец. Он вполне может стать ещё одним героем, и он стоит того, нашего цикла о российских отцах Америки и осуществлённой американской мечты. Самое известное его открытие – это детальный анализ и разработка методов подсчета показателя внутреннего валового продукта (ВВП) в его современном понимании. Сейчас это понятие известно даже школьнику, но в 1937 году его доклад о ВВП произвёл настоящий фурор в научном сообществе. В то время никто ещё не имел детальных представлений об экономике страны, даже сам термин «макроэкономика» до 1934 года не звучал, а бизнес считался чем-то абсолютно непредсказуемым.
Закономерным итогом многолетнего труда стала Премия Шведского государственного банка по экономике имени Альфреда Нобеля за «эмпирически обоснованное толкование экономического роста, приведшее к новому, более глубокому пониманию экономических и социальных структур, и процесса развития», которую Саймон Кузнец получил в 1971 году.
«Самым большим капиталом страны являются её люди с их мастерством, опытом и побуждениями к полезной экономической деятельности», – сказал учёный в своём нобелевском выступлении.
Или во ещё, открыл я в своих поисках великолепное русское имя Георгий Гребенщиков. Если я когда-то буду писать подробную историю его жизни, то и заголовок уже для того придумал – великий русский писатель, которого не знает Россия. Судьба его удивительна даже для русского, чья доля жить выпала в России переломного времени. Родился он на одном из алтайских рудников, умер и похоронен в американском городе Лейкленд, штат Флорида. Жизненная кривая между двумя этими земными точками поразительна. Она включает отдельными вехами многочисленные сибирские маршруты, русско-германский фронт, Украину при гетмане Скоропадском, военный Крым, морской путь в Тунис, потом Париж, далее – Америка. Та Сибирь и Россия, которую унёс он в своей душе, нашла неожиданное воплощение. На американской земле, купленной у обретавшегося тоже на чужбине сына Льва Толстого, он построил деревню Чураевку, повторив в ней мельчайшие детали подлинных сибирских деревень. Это не было чудачеством человека, впавшего в ностальгический транс. Первая Чураевка была заложена там, где легендарный Гайавата, собрав индейских вождей, закурил «трубку мира». Это был особого рода символ и Чураевка стала восприниматься в среде русской эмиграции неким объединяющим центром. Такие Чураевки возникли потом в Харбине, в других частях планеты, где оторванные от России русские пытались сохранить присутствие духа.
В 1933-ом году Нобелевский комитет предложил на обсуждение творчество двух писателей в качестве кандидатов на премию.
Небывалое дело – оба эти писателя были русскими: Иван Бунин и Георгий Гребенщиков. Конкурса, однако, не случилось. Гребенщиков отказался от участия в нём в пользу Бунина. Теперь может показаться странным, что не все почитатели двух писателей были единодушны в том, что премия в этот раз попала достойнейшему. Авторитетный в эмигрантских кругах В. Е. Рейнбот, бывший председатель Петербургского окружного суда, так выразил тогдашнее настроение части зарубежных русских: «После наших классиков, разом появившихся плеядой в 60-х годах, я не знаю ни одного таланта, близкого Гребенщикову по красочности языка, по выработке и выдумке сюжета, по разнообразности прекрасных психологических начертаний действующих лиц, главных и третьестепенных, и, наконец, по развитию философской перспективы». Странным сожаление о том, что Нобелевская премия не досталась Гребенщикову кажется нам, конечно лишь потому, что не было у нас возможности хорошо знать этого писателя. Тем более велико должно быть наше желание, наконец, узнать его. Путь для этого существует только один. Надо собрать и издать его наследие. Часть этого нужного нам дела начата уже сотрудниками Барнаульского музея литературы, искусства и культуры Алтая, заведения самого по себе уникального, замечательного во многих чертах. В те давние уже «застойные» годы у людей нашлись силы и возможность начать дело подлинно патриотическое. Сюда поступила тогда часть американского архива Гребенщикова. Новые времена не дали делу этому завершиться.
Опять вспоминаются мне знаменитые слова имама Шамиля, который узнал, что, воевавшего против него Лермонтова, убил на дуэли свой же, русский, светский лоботряс Мартынов: «Да, богатая страна Россия!».
И нынешнюю Россию легко назвать богатой в том же расточительном смысле. Богатыми можем показаться мы, коль у нас в небрежении память о таких богатырях культуры, как сибирский русский писатель Георгий Гребенщиков.
Вошедши в возраст, я мало теперь чему завидую. Но вот если бы нашёлся богатый человек с умом, да попробовал издать всего Гребенщикова, я бы такому человеку страшно позавидовал. Великою ценой окупились бы его затраты – золотом памяти потомства. А то, что оно, потомство наше, будет таким, что сможет оценить этот подвиг, я не сомневаюсь…
Но главное, пожалуй, в том, что русские изгнанники изменил само повседневное течение экономической и духовной жизни Америки. К началу 30-х годов в университетах и других ведущих научных учреждениях США работали около двух сотен крупнейших учёных русского происхождения. Именами этих людей пестрели страницы газет и журналов, а перед войной все двести прославлены были в США престижным ежегодником «Кто есть кто?». Но ещё большее значение в эти десятилетия, по признанию американских же историков, сыграл труд русских в качестве фермеров, шахтёров, металлургов и работников других ведущих отраслей промышленности.
«Каждая волна иммиграции оставила на американском обществе свой собственный отпечаток, каждая привнесла свой характерный вклад в становление нации и эволюцию американского образа жизни». Это слова президента Джона Ф. Кеннеди.
Эмигрировал в США сам топоним «Москва». Так здесь называются и теперь шестнадцать небольших населённых пунктов. И пшеничка русская разделила с русским крестьянином его судьбу. На Среднем Западе, забывшем уже, конечно, откуда это пошло, колосятся американские злаки – «крымка», «арнаутовка», «малаховка», «кубанка», «харьковка».
Вот удивительные, пронзительной точности слова, которые принадлежат эмигранту последней волны бесконечного русского исхода, которые сказаны уже почти в наши дни: «Я – американский гражданин. Сегодня Америка получает гуманитарную помощь от России, которая не сравнима ни с чем. Я не оговорился: именно Америка получает её с притоком русской эмиграции, влияние которой на американскую науку, технику и культуру чрезвычайно велико. В ней десятки тысяч представителей российской интеллигенции – учёных, врачей, инженеров… Америке они вполне пригодятся, а Россия их потеряла. Безвозвратно».
Нам же осталась горькая память и ощущение не закончившейся беды.
А ведь талантливых русских охотно и с надеждой приветила тогда не только Америка. Сколько же мы утратили их тогда, известных, а больше безвестных.
Теперь попробую я отправиться по русскому следу в Европе…