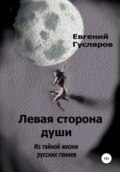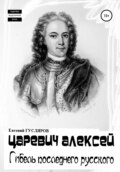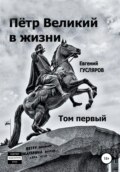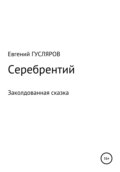Евгений Николаевич Гусляров
Русские отцы Америки
Тут прерву чтение этого замечательного документа, потому что именно в этом месте он требует, кажется мне, особого замечания. Лётчика Горшкова представлял я человеком, крепко ушибленным наступающим веком техники, которому шум мотора, чем он громче, тем более даёт упоения. «Вместо сердца пламенный мотор», это, конечно же, уродство, какая-то невиданная форма инвалидности. И хорошо, что в случае с лётчиком Горшковым оказалось это вовсе не так. У человека, привязавшегося к технике и железу, осталась душа, продолжавшая находить отраду в звуках живой природы. Осталось прежнее почитание вечных земных ценностей, выработанных веками вольной крестьянской, а теперь вот ставшей ещё и казачьей жизни, её эстетики, безошибочной и нетронутой тлением уже входившего в употребление декаданса. Нет, не безоглядно воспринимал человек победную и решительную поступь прогресса. Он всегда оставлял в душе потаённые уголки, где оставалось древнее и вечное, где таилась печаль, подобная той, когда взрослый человек вспоминает и грустит об ушедшей чистоте собственного детства. И которую циничный и прожжённый политик Черчилль выразил в таких, например, достаточно пронзительных и неожиданных словах: «Я всегда считал, что замена живой лошадиной силы железным мотором была главной и непоправимой ошибкой человечества». Люди всегда будут думать, над тем смыслом, который скрыт в этой таинственной фразе. Он, видимо, в том, что достижения сегодняшнего дня не должны отнимать у нас того, что завещано нам опытом и историей. Наш сегодняшний лад жизни не должен входить в противоречие с тем, о чём напомнят иногда струны нашей души, которые настроены так давно, что это и представить невозможно. А если это происходит, значит, в нашей жизни происходит что-то очень неладное.
«В Воздухоплавательной Школе, Г. Г. Горшков состоял одно время командиром управляемого аэростата. Эти аппараты совершенно не пользовались его симпатиями. Уже при появлении первых аэропланов, Г. Г. Горшков совершал на них полёты; был командирован во Францию для изучения авиации, и летал, как пилот на аппаратах почти всех существовавших тогда систем аэропланов. Полёты на “Муромце” Г. Г. Горшков стал совершать в 1914 году, в бытность его в Гатчинской авиационной школе, помощником начальника последней. Он был назначен командиром “Ильи Муромца Киевского” и до прибытия на аэродром в Яблонну к генералу Шидловскому, был старшим над расположенными в Яблонне пятью отрядами аэропланов “Илья Муромец”. Совершив, в качестве командира “Ильи Муромца Киевского”, ряд боевых полётов он был награждён орденом Владимира 4 ст. с мечами и бантом, Георгиевским оружием и чином подполковника, и был назначен начальником группы “Муромцев” во Львове (Илья Муромец III и Киевский), затем начальником боевого отряда под Ригой. К сожалению, антагонизм между “тяжёлой” и “лёгкой” авиацией, с которой Г. Г. Горшкова связывала его прошлая деятельность, помешал ему отдать всю свою энергию на работу в Эскадре воздушных кораблей. Прямой и даже резкий по натуре, не умевший служить и нашим, и вашим, Г. Г. Горшков, из-за интриг, являвшихся следствием этого антагонизма, в феврале 1916 года ушёл из Эскадры. Ушёл как раз в то время, когда открывалось широкое поприще для его энергичной деятельности. Несомненно, как генерал Шидловский, так и он, не показывая того, ценя один другого, не раз с сожалением вспоминали о том, что их совместная, дружная работа могла сделать многое в развитии “Муромцев”, которым и тот и другой отдавали свои силы и энергию. Заняв после революции и ухода генерала Шидловского место начальника Эскадры, Г. Г. Горшков, конечно, не мог уже ничего сделать. После развала армии и прихода немцев, Г. Г. Горшков, желая сохранить остатки русской авиации, поступил в украинскую армию, где был помощником главы украинской авиации Павленко. По приходе большевиков Г. Г. Горшков поступил в Добровольческую армию Деникина, но встречен был там не как один из видных и опытных представителей русской авиации, а скорее, как конкурент. Ему угрожали судом и принудили уехать из Екатеринодара в Одессу, где он попал в руки большевиков и вскоре был ими расстрелян».
И это всё о лётчике Георгии Горшкове.
Четвёртая жизнь
Оказавшись на улицах Нью-Йорка, Сикорский пересчитал оставшиеся доллары. Их оказалось шестьсот шестьдесят шесть. Он не стал думать, что это может означать это мистическое число для него лично, но на всякий случай, сунул один доллар нищему, протянувшему ноги поперёк тротуара. Старый негр изумился щедрому дару, стал говорить какие-то слова. Сикорский не понял ни одного. Было это 30 марта 1919 года. В этот день он сошёл с борта пассажирского парохода и сделал первые шаги по американской земле, совершенно не представляя ещё, как ему тут быть.
Опять предстояла ему новая жизнь.
Нет, он был тут не один из горемычных русских, которых разметал по миру ветер сурового времени. Среди долларовых бумажек лежал у него потёртый конверт, а в нём заветный адресок уже проживавшего в пригороде Нью-Йорка Виктора Утгофа, героя войны и одного из основоположников русской палубной авиации, а иначе, одного из основателей российских авианосного флота.
В этом же конверте была ещё одна драгоценность – рекомендательное письмо от командующего ВВС экспедиционного корпуса США в Европе генерал-майора Мейсона Патрика, адресованное командованию ВВС в Вашингтоне. В нём говорилось: «Как подтверждают документы, многомоторные самолёты Сикорского великолепно служили в Русской армии. Они совершили около 400 боевых вылетов над территорией, занятой противником, покрыв при этом расстояние в 120 тысяч километров. Только один самолёт был сбит огнём противника и не смог вернуться на базу. Эти аэропланы преодолевали большие пространства, несмотря на повреждения, и не раз возвращались с одним или двумя выведенными из строя моторами».
Подпись под письмом генерала Патрика, а слова, конечно, Сикорского. Откуда бы американскому генералу знать в таких подробностях о подвигах русской стратегической авиации. Сикорский пока не умел ничего делать, кроме известных нам «Муромцев». Тут, на чужой земле, первым делом он и захотел построить этот же богатырский аэроплан. Ему казалось, если он повторит здесь свой лучший самолёт, то он и вернёт сюда, на ферму Утгофа, лучшую часть своей Родины. Он окажется в той точке своей биографии, которая дала ему опору в России. Эта точка опоры ох как нужна была ему теперь.
И вот 5 марта 1923 года образовалась компания с шикарным и даже устрашающим названием «Сикорский Аэроинжиниринг Корпорейшн». Сикорский, разумеется, стал президентом, секретарем выбрали – П. А. Шуматова, казначеем – В. А. Бари. Уставной капитал компании – всего восемьсот долларов. Этот капитал составился из шестисот шестидесяти пяти долларов Сикорского, остальное наскребли нищие русские акционеры. Так что подавляюще контрольный пакет акций был у самого президента.
Всё имение Виктора Утгофа оказалось состоящим из небольшой утиной фермы с прилегающим к ней полем и речкой. Несколько символично, конечно. Путь в американское небо начинался всё-таки там, где обитало крылатое племя, но оно никогда не умело подняться в небо и испытать захватывающее чувство полёта. И вот предстояло это гадкое утиное место в американском захолустье, сделать символом лебединого взлёта, символом нового отчаянного вторжения в небо.
Началась работа. Детали искали на автомобильной свалке, в лавках утиля, на блошином рынке. Разбирали старые кровати и добытые таким образом роскошные никелированные уголки шли на оформление крыльев и фюзеляжа. Как ни странно, самолёт оказался через недолгое время готов. Строители и сами плохо могли себе объяснить, как это у них вышло. Их самолёт, вылитый «Илья Муромец», который тут, в Америке назван был S-29A (Сикорский, 29-я модель, американская) материализовался из энтузиазма, стал воплощением неистребимой русской мечты, не умирающей вопреки всем обстоятельствам.
Qiove Hambidge, корреспондент влиятельной «New-York Herald Tribune Magazine», описывает этот период деятельности Сикорского в весьма романтических тонах, что не очень характерно для американской печати. Видно, прикоснувшись к русскому упорству и духу, он сам заразился ими. Во всяком случае, чувствуется, что он неравнодушен к словам, которыми пытается описать то, что происходит в русской колонии авиаторов: «Эмигрант без денег, Сикорский прибыл в Америку не переставая мечтать о своих больших воздушных кораблях. В то время, в Америке было мало охотников рискнуть своими деньгами на опыты с постройкой таковых. В авиации наблюдалось затишье: война окончилась, а коммерческой авиации ещё не существовало. Сикорский нашёл кое-какую работу: на очаровательном, ломаном английском языке он читал лекции учтивому (polite) Y. М С. А. Не отказываясь ни от какой работы и кое-как сводя концы с концами, он был похож на женщину, потерявшую своего ребенка: только возня с крыльями и моторами могла его утешить. Сикорский собрал вокруг себя таких же, как и он сам, неимущих, без гроша денег эмигрантов. До поздней ночи они вели беседу, мечтая в голубом дыму папирос о больших аэропланах и отдаваясь всей душой идее их постройки. Они копили деньги, пока не собрали сумму нужную для того, чтобы приступить к постройке большого аэроплана. Для этих людей Сикорский оставался Сикорским. Они верили в гений своего соотечественника и в конечный успех затеянного им дела. Разве, когда ему было двадцать лет, он не поставил Россию на первое место по авиации? И вот они начали работать с большой верой в успех, но, увы, с ничтожными средствами. Им приходилось прибегать к невероятным, фантастическим средствам: за невозможностью приобрести нужные части, они делали их из автомобильного лома, но они работали весело, так как осуществлялась их мечта…».
В той переводной литературе, которую мне пришлось перелопачивать для того, чтобы узнать об американской жизни Сикорского, его фамилия почти всегда пишется как «Сикорски». Это, оказывается, принципиально не верно. Сикорский с первых дней в Америке писал свою фамилию так, чтобы она звучала по-русски, а не стала вариантом польского имени, и никак не соотносилась ни с какими прочими языками тоже. Не Sikorski, а Sikorsky – писал он свою фамилию, полагая при этом, что так она будет звучать вполне соответственно именно русской речи. Так бы и стоило переводить его фамилию – Сикорский. Это замечание для всех будущих переводчиков.
И вот ещё что. Я плохо знаю языки и, особенно, слог английский. Но мне известно англоязычное слово «скайлаб» – небесная лаборатория. Так называют некоторые космические станции. В английской оригинальной транскрипции это слово выглядит так – skylab. Обратите внимание на первый слог этого слова и на последний слог в имени Sikorsky. В обоих случаях присутствует и доминирует тут небо. Может, и поэтому ещё так упорно великий конструктор настаивал именно на своём написании родового имени Сикорских. Должно быть вовсе не случайным ему казалось это явное божье указание на земное предназначение, так ясно вдруг обозначенное в новом виде его фамилии. Возможно, объяснимее стал и его постоянный интерес к духовной связи человека с тем непостижимым, что связывает нас со всей вселенной.
В первый полёт должны были лететь только трое членов экипажа, а набился полный пассажирский салон. Такие восторженные лица были у первых пассажиров, что у Сикорского не хватило духа приказать своим подчинённым покинуть самолёт. Это было бы жестоко, после того, что эти его соратники и друзья только что сделали. И это стало ошибкой. Самолёт не справился с нагрузкой. Упал с тридцати метров, планируя, правда. Никто сильно не пострадал, но самолёт сильно ударился при посадке. Летать на нём уже было нельзя.
Началась новая маета с деньгами. Обратились ко всей российской эмиграции, объяснив, что дело идёт о гордости российского авиастроения, легендарных воздушных богатырях Сикорского. Оказалось, их помнят, эти замечательные самолёты. Дело приобрело неожиданный и принципиальный патриотический оборот. Деньги пошли. Чтобы не слать копейки и центы жертвователи объединялись в группы, и тогда взносы выглядели трогательно и экзотично. Из Югославии, например, было прислано десять долларов «от группы армян и евреев гор. Галаца» в Румынии. Это значит, какой-то югославский доброхот съездил специально в румынский город Галац и собрал там десять долларов на развитие русского дела в Америке. Конечно, это своеобразный подвиг благотворительности.
Будущим историкам мировой авиации, думаю, интересно будет прочитать и вот такой документ, от которого ведёт свой славный путь американская русская фирма Сикорского. Это выдержки из устава «Sikorsky Aero-Engineering Corporation», напечатанного журналом Общества офицеров Российского военно-воздушного флота в эмиграции «Наша стихия»:
«Устав утверждён 5 марта 1923 года, согласно законоположениям штата Нью-Йорк. Основной целью этого Общества являлась постройка, продажа и эксплоатация воздушных кораблей тяжелее воздуха, системы Сикорского… Оффициальными учредителями О-ва являлись следующие лица: 1) Игорь Иванович Сикорский, 2) Владимир Александрович Бари, американский гражданин, президент торгово-промьшленной корпорации “Остра”, 3) Иван Варфоломеевич Кравченко, американский гражданин, инструментальный мастер. Директорами Правления на первый год кроме указанных лиц были выбраны: 1) Виктор Викторович Утгоф, военно-морской летчик, кавалер орд. Св. Георгия 4 степ. и французского орд. Почётного Легиона, 2) Николай Петрович Стукало, домовладелец гор. Бруклина и бывший владелец механической мастерской. И. И. Сикорский по договору передавал О-ву чертежи, расчёты и права на постройку своего воздушного корабля и соглашался работать в течение четырёх лет, начиная от минимального вознаграждения, могущего быть увеличенным лишь в связи с развитием деятельности и доходности корпорации. За время нахождения на службе в О-ве И. И. Сикорский соглашался не передавать свои новые изобретения в области авиации на сторону без согласия на то общества. Первоначально была открыта подписка на 5000 облигаций на сумму 50 тысяч долларов, необходимых на постройку двух средних аэропланов Сикорского (на 8–12 пассажиров) … Подписчиками являлись главным образом русские, служившие рабочими».
Нет, не даром небесный знак обозначился с этих пор в его фамилии. Должен был явиться посланец судьбы, и он явился. Сын Сикорского на встрече с журналистами, которую я описывал уже частично, говорил ещё:
«Однажды осенним воскресным днём к полусобранному самолёту подъехал автомобиль, с пассажирского кресла которого поднялся высокий стройный человек в длинном чёрном пальто и молча направился к невесёлым самолётостроителям. Сергея Рахманинова узнали все. Игорь Сикорский подошёл к композитору, и между ними состоялся разговор, который, можно сказать, решил финансовую проблему компании буквально одним росчерком пера. “Я верю в вас и ваш самолёт и хочу помочь” – коротко сказал Рахманинов и, не медля, выписал чек на пять тысяч долларов, что в нынешнем исчислении было бы примерно сто тысяч. С улыбкой протянув чек изумлённому Сикорскому, композитор сказал: “Вернёте, когда сможете”. Рахманинов не искал возможности инвестировать деньги, он просто хотел помочь одному из самых талантливых соотечественников того времени. В знак благодарности Сикорский предложил великому композитору стать первым вице-президентом своей компании. Рахманинову это, конечно, не нужно было, но он предложение принял. И сделал он это лишь для того, чтобы поднять престиж русских, которые во главе с гениальным изобретателем стояли на пороге новых свершений в мировой авиации. В личных отношениях между двумя семьями завязалась большая дружба. Великий композитор не только станет крестным отцом его сына, но и окажет большое влияние на его жизненный путь. Николай Сикорский станет известным скрипачом».
Вместо курятника компания могла теперь арендовать настоящий ангар километрах в пятнадцати к северу от фермы в местечке Рузвельтфилд недалеко от Уэстбери (Лонг Айленд).
До этого в течение нескольких месяцев никто из штатного персонала «Sikorsky Aero-Engineering Corporation», не получал зарплаты. Их «корпорейшн» была ходячей легендой – люди работают по 12–14 часов и не получают ни цента. Для Америки это была невообразимая вещь. Но это и придало сумасшедшим русским великое уважение в среде местных жителей и даже полицейского персонала. Когда на старые грузовики погрузили фюзеляж и прочие самолётные части, чтобы отбуксировать их на новое место, полицейские с большой важностью и старанием сопровождали необычный переезд, перекрывали в нужных местах движение, как будто это едет сам президентский кортеж.
К середине лета ремонт S-29A был почти закончен. Не хватало только двигателей. Сикорский подсмотрел где-то два мотора «Либерти», каждый мощностью в четыреста лошадей. Но за них надо было опять платить. Вот когда уж точно решалась судьба всего предприятия. Многие пайщики уже окончательно разуверились в деле, другие ещё колебались. Тех, кто колебался Сикорский и решил собрать для отчаянного дела. Помещение было маленьким, но в него набилось до полусотни человек. И вот, когда все собрались, Сикорский решился на тщательно продуманный экспромт. Он закрыл дверь тесного помещения конторы на замок, а ключ с решительным видом положил в карман. Все насторожились. Стало тихо. Тут он и произнёс: «Пока не наскребём две с половиной тысячи, дверь останется закрытой».
Первая представившаяся возможность заработать деньги на самолёте, доведённом всё-таки до ума, была весьма забавной и опять какой-то символической. В дело опять вмешалось искусство. Компании предложили шестьсот долларов за перевозку двух больших пианино из Рузвельтфилда в Вашингтон, где предполагался какой-то ответственный и срочный фортепианный вечер самого Сергея Рахманинова. Опять деньги платил великий музыкант. Эти деньги были первой трудовой прибылью фирмы Сикорского, рабочие впервые получили часть зарплаты, но самое главное – перевозка послужила весьма доходчивой рекламой надёжности, грузоподъёмности и вместительности самолёта.
Да, и ещё одно главное дело. Была, наконец, достигнута та точка, которой отмечен в линии его судьбы наибольший подъём. С этим пришла уверенность. Надо было только придумать то, что даст новый успех. Он знал, что надо делать большие пассажирские и транспортные воздушные суда. Он знал и то, что суда эти особенно нужны в двух странах, раскинувшихся на громадных земных пространствах, и контролирующих, конечно, столь же необозримые небесные просторы. В двадцатые годы прошлого века, когда он заканчивал свою книгу «Воздушный путь», его думы о России были ещё неотступными и полными оптимизма. Он не отрывал ещё развития своего таланта от русской почвы. Он думал о России и полагал, что всё сделанное им будет служить родине. Вот, например, страничка его рассуждений о развитии авиации, как он это себе тогда представлял: «…Известно, например, что в Сибири имеются огромные богатства в виде ценных и необходимых для людей веществ, металлов и т. д. Очень многое ещё не использовано. Это и понятно. Представим себе условия работы партии рабочих с инженерами, или какой-либо группы людей, отправившихся на работу в такие места, от которых вёрст 300–500, а то и больше до ближайшей ж. д. станции. Люди отрезаны от мира. Ни газет, ни писем, ни известий от родных целыми месяцами нельзя получить. Более того, лёгкая болезнь может оказаться очень опасной из-за отсутствия помощи, лекарств, невозможности сделать даже лёгкую операцию и т. д. Понятно поэтому, что и рабочие, и инженеры, и поселенцы неохотно идут на такие работы. А огромные богатства народные, в которых есть большая нужда, так и остаются неиспользованными. Аэроплан в таких случаях может оказать огромные услуги. Несколько дней тяжёлого пути могут быть заменены несколькими часами приятного и интересного путешествия по воздуху. Понятно, что при таких условиях люди гораздо охотнее пойдут на такую работу, а от этого получится то, что разработка богатств страны пойдёт успешнее и шире. Можно упомянуть и ещё один пример того, какую пользу могут принести аэропланы. Наша родина на севере ограничена Ледовитым океаном. Использование этого водного пути для дешёвой доставки леса и др. предметов было бы очень важным и могло бы очень поднять благосостояние наших окраин, равно как и значительно удешевить эти материалы там, где ими придётся пользоваться. Однако северный морской путь ещё почти не использован. Виной этому то, что кораблям приходится разыскивать свой путь среди льдин, что не всегда удаётся, т. к. с парохода видно всего на несколько вёрст. Чтобы помочь делу, ещё до войны в некоторых местах на берегу были поставлены станции радиотелеграфа. Это, несомненно, помогает, однако действительно помочь делу могут только аэропланы. С их помощью можно будет всегда разыскать дорогу среди льдов и давать знать кораблям, где лежит свободный путь. Достаточно будет организовать несколько станций с аэропланами на берегу, чтобы состояние льда и проходы оказались всегда нанесёнными на карту. При таких условиях северный водный путь может быть всегда использован, что, в свою очередь, может очень сильно помочь развитию окраин России. Можно было бы указать ещё огромное число случаев, при которых сообщение по воздуху могло бы принести пользу. Доказывать это не представляется необходимым, т. к. в недалёком будущем это будет доказано самой жизнью».
Итак, Сикорский будто бы опять достиг прежней высоты. Но ведь надо было двигаться дальше. Выручки в шестьсот долларов от целого самолёта и нескольких лет упорного труда, этого было маловато. Дальнейшие прибыли оказались под вопросом. Сказывалась жёсткая конкуренция. Соревнование с такими могучими фирмами как «Боинг» или «Дуглас» могло продолжиться бесконечно долго, а могло и вообще закончиться ничем. Кроме того, у меня, когда я читал рассуждения Сикорского о подавляющем преимуществе самолётов в освоении воздушного и земного пространства, возник вопрос, который хотелось бы задать лично великому конструктору. Конечно, аэроплан великое дело. Но ведь чтобы начинать с помощью него завоёвывать пространство, нужна бы хоть какая-то, как теперь выражаются, инфраструктура. Нужны аэродромы или хотя бы простейшие взлётные и посадочные полосы, заправочные станции и ещё кое-что. Где всё это взять в дремучей вековой тайге или в полярных льдах? И вот, когда я пытался поставить себя на место Сикорского, чтобы попробовать догадаться, как он выйдет из положения, я вспомнил о том, что когда-то, ещё в России, он сделал «Илью Муромца» в виде летающей лодки, гидроплана. Эту идею в Америке он не забыл, возможно, с нею единственной он начинал здесь свою «корпорейшн». Вот путь гениальности – надо чуть изменить привычное, чтобы это привычное обернулось недосягаемым.
Пропустим несколько лет.
Теперь гидропланы Сикорского, которые он назвал S-38, такая же привычная деталь в облике Америки, как небоскрёбы. Газеты пишут о том, что Сикорский «произвёл новый переворот в авиации», что его самолёты летают, приземляются и приводняются там, «где раньше бывали только индейские пироги да лодки трапперов (охотники на пушных зверей. – Е. Г.». Вот в чём суть, Сикорский придумал, как обойтись без аэродромов и взлётных полос. Теперь пассажиру достаточно было добраться до ближайшей пристани, просто до ближайшего затона или озера, чтобы его доставили на борт шикарного комфортабельного воздушного лайнера, и он немедленно оказался в самом безлюдном и диком, если ему это надо, месте Америки. Или, наоборот, в самом центре миллионного города. Была бы там только вода, несколько десятков метров открытого спокойного, да пусть и не очень спокойного, водного пространства. Авиакомпании, привлекая пассажиров, используют невозможный прежде сказочный посыл – «На S-38 сядем всегда и везде, где только пожелаете». Самолёт садился на сушу и на воду, легко маневрировал по акватории, мог «выползать» на берег и спускаться с него в воду по специальному настилу и даже без него, если берег, конечно, это позволял. Таким образом, пассажиры могли садиться в самолёт и выходить из него, не замочив ног.
Ну и, конечно, полный комфорт, который возможен внутри лайнера. Это второе условие успеха. Он, комфорт, у Сикорского тогда мало чем отличался от нынешнего. Был даже буфет и курительная комната.
Из воспоминаний Сикорского тех лет: «Солнце было уже почти за горизонтом, и пока корабль спускался, стало совсем темно. Я был в это время в передней кабине и решил посмотреть, что делается в других помещениях. Пока я шёл к курительной комнате, стюард включил свет, и я остановился в удивлении. Я увидел ореховую отделку и элегантный вход в курительную комнату. В тот же миг я понял, что всё это я уже видел много лет назад – коридор, голубоватые лампы, ореховую отделку стен и дверей и ощущение плавного движения. Я старался вспомнить, когда и где я мог это видеть, и, наконец, вспомнил детали моего сна тридцатилетней давности».
Тридцать лет назад мать впервые прочитала ему «Робура-Завоевателя». Через год он сделал свою первую модель вертолёта, он так хотел оказаться на месте героев этого романа, что это не могло не осуществиться у него. Но сначала были сны: «В 1900 году в возрасте 11 лет мне приснился удивительный сон, – вспоминал Сикорский. – Я увидел себя идущим по узкому, богато украшенному коридору. На обеих его сторонах отделанные орехом двери, похожие на двери кают парохода. Пол покрыт красивым ковром. Круглые электрические лампы на потолке светятся приятным голубоватым светом. Чувствую под ногами слабую вибрацию и не удивляюсь тому, что это ощущение отличается от знакомой мне вибрации на пароходе или в вагоне поезда. Я принимаю это как нечто само собой разумеющееся, потому что в своём сне знаю, что нахожусь в воздухе на борту большого летающего корабля. Как только я дошёл до конца коридора и открыл дверь, чтобы войти в украшенную комнату отдыха, я проснулся. А потом мне сказали, что человек ещё никогда ничего такого не создавал».
Я пытался найти у Жюля Верна те строчки, которые так подействовали на воображение мальчика Сикорского. В таком размахе, как это описано у него самого этих строчек в романе нет. Есть только вот это: «В одной из кают кормовой рубки дядюшку Прудента и Фила Эванса ожидали две великолепные кушетки, несколько перемен белья и платья, плащи и пледы. Даже на трансатлантическом пароходе они не пользовались бы большими удобствами. И если наши воздухоплаватели спали дурно, то лишь потому, что им мешали забыться вполне понятные тревоги».
Вот и всё. Остальное, надо думать, дорисовало детское воображение. Опять повторю. Не тот ли из нас остаётся настоящим мужчиной и человеком, кто умеет не расставаться с детством. Этим умением Сикорский владел в исключительной степени, и оно сыграет опять же решающую роль в его третьей или четвёртой жизни, которую он опять начинал сначала.
Время рассчитаться с долгами пришло, наконец. Процент возврата Сикорский накинул такой, что Рахманинов отказался его принимать.
Соревнование с конкурентами теперь для Сикорского означало одно. Его догоняли те, кто эксплуатировал и совершенствовал выдвинутую им же мысль. Добившись великолепного успеха с идеей гидропланов, Сикорский вдруг почувствовал, что устаёт её отстаивать. На гидропланы переключились почти все самолётные фирмы, пытаясь урвать и для себя лакомый кусок. Усовершенствования, внесённые другими в его схему, вносили в конкурентную борьбу элемент гангстерский, создававший повод для тяжбы, которая унижала и действовала на нервы. Дело дошло до того, что знаменитая уже фирма Сикорского проиграла в 1939-м году военный заказ малоизвестной фирме «Консолидейтед Эркрафт». Это был для Сикорскского первый сигнал, отметивший конец одного и начало другого этапа поразительной судьбы. Ему надо стало отринуть всё это, вырваться вперёд, так чтобы опять стать недосягаемым. Пришло время исполниться детской мечте. Началась эра геликоптеров.
«Вертолёт – это русское изобретение»
Опять надо будет говорить об интуиции. Выбрав для следующего взлёта собственной судьбы вертолёт, он, в сущности, продолжил прежнюю заботу о нуждах человечества. Эра гидросамолётов закончилась ещё и потому, что люди смогли всё же построить аэродромы в самых нужных им места и нужда садиться на воду, во многих случаях, отпала. Но оставалось ещё достаточно мест, где аэродромов никогда не будет, а нужда в этих местах остаётся огромной. И, главное, нужда эта бывает настоятельной – пропадают экспедиции, падают в ущелья альпинисты, уносит в море льдины с рыбаками, терпят бедствие моряки и те же лётчики. Ему вдруг стало нужно, наконец, опуститься самому в кратер вулкана. Не пешком, разумеется.
Два десятилетия до этого он писал: «По всей вероятности, будет создан и геликоптер. Но и ему может принадлежать лишь второстепенная роль сравнительно с самолётами». Теперь он уже не думал о второстепенной роли вертолётов.
Первый полёт нового детища Сикорского, метавшегося в воздухе, как неокрепший птенец, опять описан многими. Бодро поднявшись, вертолёт почему-то упорно летал только задним ходом. Когда Сикорского спросили, почему это его вертолёт так артачится, он ответил: «Это одна из незначительных инженерных задач, мы о ней пока не думали!». Это была первая шутка, вошедшая в анналы вертолётостроения. Потом был ещё вопрос, почему Сикорский, до сей поры яростный поборник многовинтовой лётной техники, выбрал для вертолёта схему с одним винтом? Он ответил: «Вы должны бы заметить, что две женщины на кухне, это очень много». Это была вторая шутка.
И первый тот свой полёт он описывает тоже с юмором: «Управлять машиной было трудно, она очень вибрировала. Я трясся так, что превратился, наверное, в одну большую размытую кляксу в глазах зрителей. А мои товарищи, окружавшие машину, упали на колени. Если вы думаете, что они молились, чтобы машина поднялась или чтобы я спасся, вы ошибаетесь: они просто смотрели, оторвутся ли от земли все четыре колеса одновременно».
Потом, когда надо станет говорить серьёзно, он скажет так: «Вы знаете, я только теперь понял, что дело своё надо делать так, чтобы к нему не было вопросов».
14 сентября 1939 года Сикорский, опять сам, поднял в воздух однороторный геликоптер с рулевым винтом на хвостовой балке. Машина оказалась исключительно удачной, и вопросов к нему уже не было. С того времени вертолёты именно этой системы получили общее признание. Её, эту схему, имеют более девяноста процентов вертолётов, летающих теперь во всём мире.