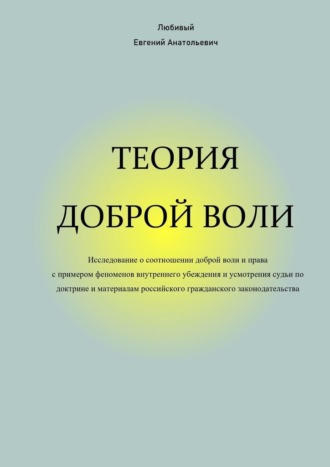
Евгений Анатольевич Любивый
Теория доброй воли
1.2. Продолжение европейской традиции
1.2.1. Эпоха гуманизма и проблема рационализма
Преемственность античных идей. – Антропо – религиозный дуализм. – Гуманистическое естественное право. – Преемственность средневековых идей. – Рационализм. – Э. Вейгель. – Пуфендорф. – Томазиус. – Кумберленд. – Кэдворт. – Спиноза. – Локк. – Юм. – Бентам. – Юсти
В этике европейских народов оставались светские идеи, унаследованные в классической образованности, заключающиеся в осознании великой исторической судьбы Европы. Схоластика, руководствуясь религиозными интересами и отрицая научную критику183, не могла решить сложные моральные вопросы. Политический тоталитаризм, закрепленный религиозно, давил любую практическую попытку решить общечеловеческие проблемы. Решение этико – правовых задач требовало тесной связи и изучения наук, рассматривающих те же явления с биологической, социальной, антропологической, этнологической, исторической точек зрения184. Несовершенство христианской философии, рост идей, связанный как с расширением географических границ европейской цивилизации, так и с усложнением мировоззрения интеллектуалов, породил необходимость образования этики в качестве отделенного от религии направления185.
Антропо – богословская трактовка, выводившая свойства окружающего мира из оценки рассудка, настроенного сверхъестественными причинами, стала медленно уходить из сознания мыслителей Возрождения, чье мировоззрение изменялось в силу возникновения современных европейских национальных государств186; если средневековая антропология возводилась на обосновании вершины личности без ее связи с государством, то мысль позднего средневековья постепенно перестраивается в сторону возвышения личности до уровня государства, идеализированной гражданственности187; в противоположность Византии, где римская юридическая традиция прерывается, исчезает и замещается сборниками – «базиликами» с подменой юристов – законниками, а национального сознания правоведения – бесконечным размножением юридической техники188, – на западе начинается рецепция римских юридических норм, заторможенная механическим математическим рационализмом189; эта рецепция начинает изменять старый экзагетический подход к сущности права. В поисках истины рационализм развенчивает признанные авторитеты и накопленное познание, впадая в крайности; разум сам себя ограничивает. Отрицание достижений исторического процесса обнаруживает слабость призрачных принципов рационализма. Критицизм сменяется застоем, и научное предание сознательно укрепляется190. Рационализм уравнивает вселенское и индивидуальное в категориальном мышлении, упуская из виду чувственную первопричину понятий о явлениях и предметах окружающего мира. Из математического постулата «от простого к сложному» можно вывести противоположные выводы, математика возвращается через абстракции к сенсуализму, не в состоянии объяснить действительность знаковыми формулами; начинаются спекуляции на темы сверхчувственного, подсознательного, мистического; в итоге, математика объясняет, но не создает новые идеи191.
Естественное право восстает против устаревших идей прошлого. Теперь воля и мысль формируют новые задачи и их решение. Расширение этико – правовых идей заключается в индивидуалистической постановке личности и разума человека в природе, соотнесенной с материей и движением нашего мира – положение, ставшее основой современной науки, в т. ч., правоведения, с признанием единства субъективного и объективного действия доброй воли в социуме192. Этот тезис будет развит ведущими мыслителями Нового времени на протяжении следующих столетий.
Античный период, ориентированный на познание, заложенное древнегреческими философами, закольцуется на исходе классического Средневековья в эпоху Ренессанса – время переосмысления и перехода к современной методологии древнейшей европейской гносеологии. Основой Возрождения стал антропоцентризм, признание человека главным объектом всего интеллектуального и социального193. Мыслители возвращались к идее гармонии всего сущего, отрицанию позитивизма зла. Интеллектуальными лидерами Возрождения стали гуманисты194, благодаря тому, что естественное право поставило в центр политики вместо христианина и церковных законов – человека195. Гуманистическая мысль носила практический характер, обращенный к реальным проблемам человечества. Разрешение проблем возможно благодаря культуре, т. е. возделыванию, воспитанию человека. Культурный человек обладает единством воли и интеллекта, в результате его поведение представляет собой образец гражданственности196. Гуманисты, в отличие от средневековых схоластов и глоссаторов, стали изучать право как фактор общественной жизни в отрыве от догмы теории197.
Гуманизм имел начало в Италии, где римское право не прерывалось и действовало все Средневековье198. Первым гуманистом, развившим этические идеи в контексте гражданственности, был Леонардо Бруни. Благо равно счастью, идея счастья понимается каждым по – разному, изменения языка, трактовки античных школ, тысячелетние наслоения, динамика времен налагают каждый свой след на современные категории. В рамках гуманистической интерпретации, в вопросе о высшем счастье, можно говорить только о человеческом счастье, сфера религиозного относится к другим вопросам. Достижение счастья возможно (мысль Аристотеля) в гражданском государстве, которое регулирует соотношение доброй воли отдельных субъектов,199 – итальянский гражданский гуманизм вплотную подходит к вопросу о субъективных столкновениях доброй воли, вопросу, который будет разрешен в продолжение французской200 и немецкой мысли.
Леон Баттист Альберти в понятие добродетели включает разумность, справедливость, стойкость, умеренность, мужество, терпение. Гражданская добродетель выражается в чести, переплетенной с добрыми нравами201. Гуманисты видели в воспитании добрых нравов основу благополучия государства, особенно это подчеркивали Маттео Пальмиери и Пьер Паоло Верджерио202. Основа благородного нрава в чистом искании похвалы, без которой невозможен патриотизм, уважение к труду и гражданственность, – закладывается основа объединения частных субъектов для достижения взаимного осуществления стремлений, отправляемых доброй волей. В гражданскую науку входят история, этика и риторика. Вслед за древними греками, Верджерио призывает обучать детей грамматике, гимнастике, музыке и рисованию203; семь перечисленных дисциплин составят основу германских и русских классических гимназий, а сегодня западных «элитарных» школ.
Лоренцо Валла выводит добро не из религии, обращенной к потустороннему, а из действительной добродетели повседневности этого мира. Основа добродетели – честность. На чести держится справедливость, щедрость, милосердие. Нравственность – ничто, поступки мотивированы личной пользой. Добродетель и наслаждение несовместимы, рассудок помогает выбрать лучшее решение проблемы. Выбор ответственности – иллюзия, если человек руководствуется не выгодой, а честью и добротой; всегда есть выбор между рациональностью и безумием. Безумство при добывании чести в конечном итоге усугубляет положение человека204. Так, понятие чести неразрывно с самосохранением и неминуемо ведет к продажности, поэтому не может рассматриваться отдельно от морали.
В 1440 г. с целью пересмотра античных знаний во Флоренции была основана Платоновская академия205. Главный представитель этой школы Марсилио Фичино в соответствии со средневековыми представлениями разделял интеллект и волю. Воля является частью души. Воля влияет на состояние интеллекта; для счастливого состояния человека необходимо воспитывать волю, которая у развитого человека наделена свойствами острого мышления, смелостью и готовностью к действию. Достичь абсолютного нравственного блага на этой земле невозможно, – обосновывается идея вечного божественного совершенства206. Таким образом, религиозная концепция исключает человека из реальных моральных рамок. К первой половине XVI в. наблюдается упадок гуманизма с откатом в реакционный мизантропический рационализм; неслучайно на эту эпоху приходится ожесточение религиозных войн.
Если в классическое Средневековье римские юридические идеи начинают распространяться в Европе, главным образом, в Германии, Голландии207 и Франции, легатами итальянских университетов, то уже к XVI в. естественное право становится инструментом и идеологической основой для образования национального французского права взамен разрозненных законов феодального периода208.
Юридические идеи Нового времени наследуют, развивают и систематизируют средневековые концепции; оппозиционность старым воззрениям заключается в неотчуждаемости верховных прав народа и индивида с возвышением государства над положительным правом при главенстве права естественного. Т. Гоббс выводит нравственность из – под влияния религии и переносит ее в область действия государства, приближая мораль к юридическим законам209. Естественное право к XVII в. секуляризуется и определяет закон как результат деятельности человеческого разума210. До этого времени понятия этики, права и религии тесно переплетены, и поэтому несут в себе как фантастический, сверхъестественный элемент, так и отсутствие четкого разделения между моральным и законодательным211. Так, Паскаль выводит антиномии морального рассудка, заключающиеся в чувстве долга, которое приводит к идеалистическим формулам, и в эмпирическом подходе, который заставляет человека действовать в реалистических условиях. Противоречия между этими двумя типами диктует борьбу и изменчивость в человеческом поведении. Изучение природы человека поможет разработать этический кодекс. Таким образом, этика методологически обусловлена естественными науками. Декарт, вслед за Августином и Абеляром, счастье блаженства определяет в твердой доброй воле, которая равна истине. Достижение добра доставляет чувство личного удовлетворения. Нравственное совершенство тем больше, чем выше интеллектуальный уровень человека212. Центральной темой перечисленных мыслителей оставалась религия.
Рационализм поставил вопрос о нравственной автономии воли213, сумев развить универсальное понятие о естественном праве, не привязанном к политической конъюнктуре. Естественное право становится верховным принципом законодательства и юриспруденции. Главной темой права стала справедливость. Преодоление представления о греховности человека создало понятие о прирожденном добре, заложенном в каждого индивида214.
Немецкая юридическая школа наследовала средневековые правовые идеи о гармонии и единстве сущего, впервые значительно развив их в XVII в.215 Учитель Пуфендорфа Э. Вейгель полагает, что основным предметом этики является воля. Человек всегда живет в обществе, от общества уйти нельзя, поэтому этика есть гражданская философия. Специальные вопросы морали связаны со вспомогательными юридическими дисциплинами, основанными на естественном опыте и шифрованные математическим методом. Точность кодификации гражданского права позволяет именовать юристов моральными математиками. Естественное право равно позитивному. Схоластические, в т. ч. логические приемы в правоведении бессмысленны, т. к. являются пустым словоблудием, точное определение права и нравственности возможно в строгих установках. Гражданское состояние упорядочивает моральный хаос, обыденный при столкновении воль частных субъектов; общественное согласие устанавливает взаимосвязанные публичные и частные положения, именуемые физическими и юридическими лицами – термины, введенные Вейгелем. В силу этого, в юридических отношениях понятия добра, зла, любви и ненависти являются не более чем субъективными ощущениями. Источник зла – воля человека, источник добра – рассудок человека216. Введение фикции юридического лица означало, что волевые отношения между людьми выведены из области действия божественного (идейного) в юридическую плоскость взаимных прав и обязанностей, урегулированных законом.
Самоценность математики как единственного критерия научности правовых и этических норм стало основой учения217 классика германской юриспруденции, естествоиспытателя Пуфендорфа, которого можно определить как защитника религиозной трактовки естественного права. Воля человека заключается в его разуме и дается от бога. Гражданские законы, написанные людьми, согласуются с общечеловеческой моралью; любая мораль признается доброй, потому что исходит от высших сил218. Это опасное умозаключение остается наиболее уязвимым местом естественного права, т. к. обосновывает произвол законодателя любого политического направления.
Математическая методология Пуфендорфа привела к резкому противопоставлению морали и права у его ученика Х. Томазиуса. Мораль имеет выражение в совете, право – в приказании219. Нравственность исходит из общественных стремлений человека к любви. Как и его современник Лейбниц220, вкладывающий в высший принцип человечности истину, Томазиус именует человека caritas sapientis (любящий разумность)221. Естественное право есть нравственная справедливость, отделенная от этики, которая является учением о честности. Томазиус вводит принцип всеобщности естественного права, которое распространяется на всех вне зависимости от убеждений совести, и принцип разумности как основы блага. Социальный принцип при объяснении обязанностей частных субъектов не подходит, т. к. требует юридических и философских уловок для своего толкования, что мы увидим ниже у Канта. Основа стремлений людей – счастье. Счастье частное равно счастью всеобщему. Требования счастья, исходящие от частных субъектов, объемлют собой все человеческие устремления и требуют разумного, справедливого и честного (добросовестного) – принципов, закрепленных в современном российском гражданском законе. Объединяют эти принципы в добрую волю сила, монополией на которую обладает государство. Блюнчли отмечает, что такая интерпретация права устарела и недостаточна для цивилизованного государства: нельзя сводить естественное право к формальному, необходимо учитывать народную волю; государственное принуждение подходит для уголовного права и судопроизводства, но неэффективно в гражданских правоотношениях и конституционном строительстве. Судебное рассмотрение споров – крайняя форма разрешения конфликтов, необходимо стремится к такому государственному устройству, в котором общество достигает наибольшей выгоды для всех частных участников в соответствии с общественными представлениями о справедливости. Стремление к огосударствлению антагонистично защите личных прав, идеализирование внутреннего содержания человека пригодно только для изолированных субъектов222. Таким образом, к началу XVIII в. юридическая мысль еще не достигла вопроса разграничения личной и общей доброй воли, но начался кризис мировоззрения223, который будет разрешен в философии Просвещения.
Следует признать, что из средневековой тьмы Европу вывела не Италия, а Голландия. Идеал либерального государства224, сформированный в Голландии XVII в., являет важнейшее событие в истории мысли за полторы тысячи лет (от составления классических сборников римского права) и определяет вектор дальнейшего прогрессивного развития человечества. Монтескье отмечает, что в обществе, одержимом торговой моралью, все добродетели приобретают обязательную финансовую стоимость. Это приводит к определению справедливости как ценового равновесия. Торг становится самодостаточным моральным установлением, который исключает как собственное благополучие, так и благополучие окружающих по принципу равенства субъекта и объекта225. Такое определение справедливости развилось в Голландии и Англии, странах, заложившими базу современной западной торговой цивилизации. К XVIII в. голландские публицисты создают смешанную систему права и нравственности, выводя всеобщие ценности жизни и благополучия человека226.
В основе английской этико – правовой доктрины положен принцип счастья, к которому стремится добрая воля всех людей. Современник и идеологический соратник Пуфендорфа Р. Кумберленд, вслед за Г. Мором, в соответствии со средневековым мировоззрением, разделяет разум и волю. Человеческий ум делится на «правильный разум», рассудок (способность отвлечения, в которой заключены все идеи интеллектуальной культуры) и совесть. Совесть независимо оценивает нравственные поступки, источником которых являются две остальные части ума. У животных нет совести. Разум открывает для себя моральные истины опытным путем. Закон природы состоит в корреляции личного благосостояния от нравственно правильного, общественного образа действий. Биологическая мораль едина для всех народов, в т. ч., диких. Человек предрасположен к мирным отношениям с другими субъектами, человечество составляет систему разумных существ. Всеобщая благосклонность есть основание всей органической и неорганической природы. Систематические связи природы аналогичны нравственным связям людской солидарности. Все действия личностей имеют последствия для всего общества, человек создан для жизни в группе. Разумность помогает даже примитивным племенам быстро осознать, что установление законов необходимо для распределения благ, охраны прав и урегулирования межсубъектных отношений. Так люди приходят к государственному порядку – появляются институты и учреждения, в т. ч., собственность и суд. Факт взаимной гарантии прав и обмена услугами подтверждает коммуникативность людей, стремление быть в общечеловеческом союзе. (По сути, замечает Аполлон Смирнов, это обосновывает корыстные мотивы в обычаях людей.) Личное счастье подчинено моральному поведению. Общим, априорным доказательством этого является равенство целого сумме своих частей, личность равна обществу, – здесь математически – схоластический пример далек от повседневности, достаточно привести силлогизм от противного. Частное, эмпирическое доказательство состоит в осознании последствий любых наших действий. Человек склонен к доброй воле, поэтому соизмеряет с ней свои поступки. Осознание, что все сделано правильно в соответствии с доброй волей, наполняет человека счастьем. Добро нормально и приятно природе человека, желание порока есть психическое отклонение. Впрочем, религиозный взгляд Кумберленда не позволяет ему увидеть, что нравственно – доброе поведение не доставляет полезности и материального благосостояния, – и поэтому чувственные ощущения сводятся к личной благорасположенности по отношению к власть имущим. Вследствие этого, связь между счастьем и добродетелью является не необходимой, а вероятной справедливостью. Всеобщая благосклонность есть всеобщая польза, на которой строится нравственность и право. Исходя из правила искания личного счастья, человек выбирает, какую ответственность выбрать при столкновении интересов227. Высший нравственный закон – счастье и благо общества и индивида. Впечатления, полученные от внешних факторов, побуждают волю человека действовать. Право ограничивает индивидуальный произвол человека и внушает людям обязанности мира и нравственного поведения. Рамку нравственного долга определяет законодатель228.
Р. Кэдворт (Cudworth) стал основоположником эмансипации нравственности от религии и любых коллективных форм организации, утверждая врожденность идеи добра; добро – единая вечная истина229. С. Кларк продолжает мысль Кэдворта, что люди для своего же блага руководствуются идеями истины, добра, справедливости, разумности, которыми пронизано все мироздание230. Объективные законы этики универсальны. Нарушение доброй воли, которой руководствуется юстиция, есть искажение арифметического равенства, на котором построен мир231. Таким образом, вводится математический принцип доказуемости, который, фактически, ничего не подтверждает, потому что графико – логическими моделями можно обозначить все что угодно. Математика – это язык, но не доказательство. В целом, необходимо сказать, что английские моралисты XVII в. заложили основы утилитарной теории, поставив в центр этических учений не субъективный, а объективный критерий общественной пользы232.
Б. Спиноза понимает волю как идею, объединяющую человеческие желания в реальности. Основой человеческого существования является нравственная сила, однозначная воле. Усилия человека направлены на самосохранение. Добродетель и разумность равны, добро равно природе человека, вся жизнь которого заключается в искании собственной пользы. Естественное право состоит в разумности человеческих особей, чем люди разумней, тем они более похожи друг на друга и в поиске собственной пользы. Поскольку разумность схожа, то в искании пользы люди наиболее близки233. Находясь под влиянием как схоластических, так и талмудических словесных конструкций, Спиноза создает иллюзорный порядок мышления, который лишь ставит проблемы, но не решает их для области материального мира; таким образом, его идеи представляют важный переход от идеально – богословского мировоззрения средних веков к мышлению современной эпохи, где в центре интеллектуального изучения стоят не сверхъестественные силы, а человеческий разум.
Дж. Локк разделяет человеческое согласие на установленное и естественное, понимая под установленным законы, под естественным – прирожденную, запечатленную в умах людей мораль, которая меняется под влиянием окружающей среды и составляет множество мнений. Локк критикует теорию о пользе как мериле нравственности; слово польза означает выгоду, прибыль, что недопустимо с нравственной точки зрения. Нравственным или безнравственным делает обязательство закон; одни и те же обязательства при разных законах могут быть как реальными, так и фиктивными, и воля человека тут не при чем. Польза – вывод, но не предпосылка действия234. Заключим, что Локк, вводя новые элементы в этико – правовую теорию, остается мыслителем «старого», «средневекового» типа, для которого нет вопроса о вреде очевидных ежедневных вещей, которые в другую эпоху могут быть аморальными и недопустимыми.
Последователь Шефтсбери и Гутчесона235 Д. Юм отрицает разумное происхождение нравственности. Субъективные впечатления человека определяют понятия добра и зла, но объективные факты мира сами по себе не являются не истинными, ни ложным; ценность поступков независима от умозаключений, следовательно, мораль отделена от интеллекта. Действия человека зачастую не согласуются с разумом. Человек неосознанно воспринимает внешнее воздействие и дает ему характеристику, определяя его нравственное содержание, но причина действий лежит вне разума индивида. Нравственность коренится в природной сущности человека, которую можно истребить только введя человеческую мысль в болезнь или сумасшествие. Понятия естественного и искусственного смешаны, поэтому добро и зло нельзя определить как естественный или противоестественный порядок вещей. В центре этики стоит категория справедливости, которая изобретена нациями для выражения общественных и государственных интересов. Симпатия, дружба, благожелательность, умеренность, беспристрастие, великодушие считаются добрыми качествами социальной нравственности, потому что содействуют процветанию человечества236.
Классик английского правоведения И. Бентам ставит в центр всех людских устремлений достижение чувств удовольствия и страдания. Любые действия индивидов измеряются пользой. Регулирование полезности происходит благодаря естественной разумности и праву. Бентам определяет частную этику как искусство исполнения обязанностей; минимум обязанностей по отношению к другим субъектам составляет честность; увеличение пользы других является благотворительностью. И частная этика, и законодательство имеют своей целью счастье. Частная этика шире по действию, чем законодательство; поведение человека, мера наносимого им вреда или полезности определяется его личной волей. Правила честности определяются гражданским законом, потому что связаны с собственностью; благотворительность полностью зависит от личной доброй воли237.
Во второй половине XVIII в. немецкие натурфилософы вводят в гражданское процессуальное право философские принципы, навеянные античными знаниями о состязательности сторон в суде. Им противостоят сторонники Просвещения, под влиянием национальных (государственных) идей которых прусские законодатели разрабатывают систему судейского усмотрения, построенную на внутреннем убеждении судьи. Отсутствие высокоморального воспитания и классической образованности в этом случае не могло обеспечить внутреннее убеждение судьи на базе доброй воли, а приводило к произволу238. Правовая концепция И. Г. Г. Юсти помогает понять основания нравственных принципов, принятых в российском гражданском законодательстве в конце XX в. Юсти определяет народное право как естественное право, возникшее из – за природной вольности наций и единое в нравственных устоях. Формальное право должно только дополнять естественные законы. Справедливость не может быть обеспечена естественным правом, т. к. в биологическом состоянии человек свободен делать что угодно, в т. ч., вредить окружающим. Государственное принуждение заставляет людей преклоняться перед распределением ресурсов в стране, где обожествляют людей высокого социального статуса. Предел справедливости определяется разумностью. Доброта разумно поставленных нравов загораживается в человеческом поведении предрассудками воспитания и обычаев. Мораль не соприкасается с законами, но законодателю необходимо добиваться, чтобы право не противоречило нравам. Наравне со справедливостью и разумностью основу доброй воли составляет добросовестность (честность). Четвертое правило нравственности, ко второй половине XX в. отвергнутое, это отсутствие расслабленности; расслабленность приводит к упадку нравов, при котором народ деградирует и порабощается239. Воззрения Юсти отражают сословно – иерархическое состояние общества позднего Средневековья, строго разграниченного по распределению труда, и где роль каждого социального слоя ценится как часть целостного механизма государства, или, в тогдашней терминологии, государственной власти240. Книга Юсти являлась одной из ключевых в проведении законодательных реформ времен Екатерины II, влияние которых в течение столетий укоренились в отечественном правовом сознании и практике; необходимо отметить, что российское законодательное направление высоко ценили в Европе, нравственное превосходство которого отмечал Г. Филанджери, полагавший, что российские законы в будущем станут законами Европы благодаря заложенным в своем остове принципам разумности и трезвости241.


