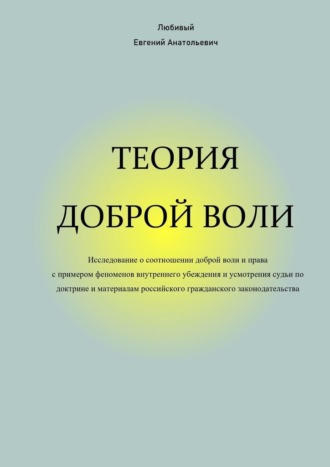
Евгений Анатольевич Любивый
Теория доброй воли
Перед тем как приступить к обозрению степени разработанности проблемы, необходимо отметить авторов и идеи, которые, на наш взгляд, не входят в заявленную тему, хотя и могли касаться некоторых этико – правовых аспектов доброй воли или ее критики. Итак, не входит в наши задачи:
1) Разбор этических учений в целом; моральные построения рассматриваются в той степени, в какой они затрагивают категории доброй воли; как мы увидим из обзора первой главы, такой подход необходим в условиях стагнации и отрицания рядом исследователей нравственности как явления при сохранении обращения к этической тематике.
2) Ряд авторов, которые отрицают добрую волю (Ницше, Штаммлер, Ориу, Ридли и др.).
3) Религия отрицает как этику, так и право, поэтому религиозная литература не разбирается в нашем исследовании.
4) Поскольку для «хозяйствующих субъектов» создан отдельный тип судов – арбитражные – то в рамках нашего исследования мы ограничимся разбором деятельности, связанной с гражданским процессом.
5) Политические концепции также не входят в наш разбор соотношения доброй воли и права. Стоит оговориться, что, в связи с неравенством публичного и частного права, а также применением исторического метода, предполагающем изучение различных, несхожих между собой эпох развития человечества, в нашем исследовании под «частными субъектами» понимаются не все субъекты социума, а его первичные элементы, присутствующие во все сознательные времена существования человечества, а именно отдельно взятые люди, обладающие волей, которые объединяются и враждуют на протяжении всех этапов развития в любом конце света и в любую эпоху. Проблемы конфликтов юридических лиц, торговля, война, внесудебные процедуры, криминальные ситуации, столкновение типа «человек – государство» не рассматриваются, т. к. находятся вне проблемного поля диссертации. Вместе с тем, некоторые аспекты, связанные с волевым участием физических лиц, могут затрагивать и другие частные субъекты общества – семью и ассоциации без образования юридического лица, поэтому корректней уточнить тему в рамках дефиниции «частный субъект». Понятие «частный субъект» также противопоставлено у нас с понятием «хозяйствующий субъект», которое распространено сегодня в слое политического менеджмента и которое мы находим людоедским.
Степень разработанности темы. При изучении российской юриспруденции необходимо иметь в виду, что правовая культура до Великих реформ Александра II представляла собой иной порядок норм, отражающий сословное разнообразие и концептуально отличный от государственной формализованной стандартизации, в условиях которой существует современная юриспруденция. С учетом сказанного, литература по теме делится на две отличные друг от друга части, границы между которыми размыты в пределах второй половины XIX в. и окончательно разбиты после 1917 г. При общности и преемственности ряда институтов, следует учитывать эту методологическую развилку в правоведении. При анализе отечественного законоведения, нами разбираются авторы, которые рассматривали как правовые, так и этические проблемы. Юридические труды, не ставящие моральную проблематику, не относятся к теме нашего исследования, а философские сочинения, не затрагивающие правовые вопросы, также не могут быть приняты во внимание в силу фактической беспредметности абстрактных задач.
В русской классической юридической традиции тема доброй воли в праве занимала одно из решающих мест. Здесь необходимо отметить заслуги в интеллектуальной истории права В. Н. Лешкова, изыскания в области образования юридического мышления П. Г. Редкина, обоснование культуры права Н. Л. Дювернуа, самую содержательную историю отечественных судебных инстанций младшего сотрудника Сперанского Ф. М. Дмитриева, курс классического русского гражданского права К. И. Малышева, гимназический курс законов Ф. И. Проскурякова, в котором представлено полное обозрение гражданских отношений в Российской империи к середине XIX, т. е. накопленный юридический опыт к концу дореформенного периода, исследования о принципах, судебном признании и усмотрении М. И. Малинина, философия права К. Д. Кавелина, классификация гражданского права Е. А. Нефедьева, обзор обычного права русского народа Е. И. Якушкина. В советское время тему соотношения права, совести58 и добра поднимали В. К. Бабаев, В. А. Сапун, Г. А. Свердлык. Восстановление исторической преемственности в 90—е гг. XX в. привело к массе изысканий в области этико – правовых принципов. Так, принцип справедливости рассматривают с философско – юридической точки зрения Н. Н. Вопленко, семья Богдановых (Е. В., Д. Е. и Е. Е.), С. А. Иванова, А. Ю. Мигачева, С. Н. Черных; с этимологической – Н. В. Печерская; принцип добросовестности раскрыт в доктрине таких юристов как С. К. Соломин, Е. В. Вавилин, А. В. Чекмарева, К. В. Нам, Т. В. Дерюгина, Д. В. Дождев; принцип разумности стал предметом изучения О. В. Мазур, К. Е. Коваленко, а принципы в целом – Д. Л. Кондратюка, Г. В. Мальцева, А. В. Коновалова, М. Ф. Лукьяненко, В. И. Емельянова. Волю и ее нравственную характеристику в юридическом ключе разбирают С. Г. Шевцов, А. С. Рясина, Т. В. Докучаева, Ю. А. Гаврилова, О. Б. Никифорова. Судебные аспекты применения права и доброй воли затрагиваются в трудах И. Л. Петрухина, А. В. Ведерникова, П. А. Гука, О. В. Кораблиной, С. Ю. Некрасова, О. А. Папковой, М. Н. Марченко.
Современная теоретическая литература регрессивна сравнительно с состоянием русской юридической мысли начала XX в. Исключение гуманитаристики из науки не только делает прикладные профессии узкоспециализированным ремеслом, но и закрывает возможность универсального построения человеческой деятельности на началах разумности, цивилизованности и права.
Характер сегодняшней политико – правовой системы и определение «добрых нравов» создают правящие юристы59 – В. В. Путин, Н. П. Патрушев60, Д. А. Медведев61, В. Д. Зорькин, что соответствует отечественному государственному развитию последних веков и юридической доктрине62, принятой в нашей стране к началу XX в., и реципированной ныне. Например, понятие «добросовестность» не наследует одноименные дореволюционные русские понятия, не трактуется как категории добра или этики, а навеяно христианским мировоззрением В. Д. Зорькина63 с соответствующим интерпретационным аппаратом. Ряд исследователей64 вплотную подходят к исследованию соотношения доброй воли и права, но, будучи связанны методологией нормативистской школы, не могут увидеть в полном объеме и изучить это явление. Невозможность преодолеть переписывание, присущее советским исследованиям, закономерно подвигает к методологии отечественной научной школы, поэтому наша работа, с одной стороны, не следует общему направлению нынешнего юридического нормативизма, но, с другой стороны, находит в тех же работах универсальные элементы правовой культуры, которые нельзя умышленно игнорировать в силу их аксиологического императива. Поэтому в нашей диссертации в основу методологии исследования заложен постулат актуализации правового знания: ценностно – правовыми признаются те концепты, которые подтвердили свою состоятельность исторически. В области гражданской методологии автор опирается на достижения русской юридической школы. Метафизический подход, рассматривающий явления в целостности субстанций, логически распадается на позитивистский, начинающий изучение с мельчайших атомов социального организма. В этом синтезе позитивизма и социологизма состоит особенность отечественной юридической школы65.
Разумение законодательной нормы означает знание юридических принципов, исторически приведших к писаной норме права66. Поскольку право не является исключительно правовой категорией, а является частью общественной культуры, то при его исследовании использован культурологический подход. Право есть продукт аккумуляции человеческой деятельности, передаваемый по наследству традицией. Поэтому необходимо изучение интеллектуальных условий, предшествующих во времени современному российскому законодательству67. Право рассматривается нами как продукт разума, поэтому работа основана на понятиях правовой культуры (правосознания); в связи с этим ставятся правовые вопросы интеллектуальной истории. Право соответствует культурному строю своей эпохи. Единым во времени оставалось право личности человека европейского типа, которое породило этико – правовую категорию доброй воли. Право растет на почве культуры. Культурный принцип совершенствования человеческого рода проявляется в рецепциях, усовершенствовании права на протяжении сменяющих друг друга цивилизаций. Первичным здесь является интеллектуальная работа великих мыслителей прошлого и будущего. Зная историю юриспруденции, правовед раскрывает этико – правовые факторы подъема и разложения общества, концепты, ведущие как к добру, так и к гибели68.
Виды гражданских отношений, урегулированные юридически и абстрактно, составляют правовые институты и нормы. Генетическая связь, существующая между реальными отношениями и их абстрактной регламентацией, заключается в преимуществе настоящих явлений, которые определяют базу законодательства, направленного как на поддержание гражданских отношений, так и на препятствованию этому. С обратной стороны, сформировавшиеся юридические институты ставят критерии для оценки новых конкретных проблем и споров. Такая методология является отправной и практикоориентированной69.
Юриспруденция создает идеалы государственного порядка. Исходя из высших нравственных целей, правоведение формулирует законодательные принципы, руководящие начала, которые объективно указывают направление развития юридической системы. Юридическая наука изучает историю института, выводит его типовые черты и предлагает критическую оценку происходящего, наводя на ценное и полезное. Правовые дефиниции не составляют самостоятельных, не связанных с моралью, предметов. Все правила поведения имеют нравственный характер и представляют указания воле человека, направленной к высшим идеалам человеческого общежития. Поэтому этика регулирует область совести, право – движение прогресса70, на этой дихотомии методологически строится наше исследование.
Актуализация доктрины зависит от исторического изучения правовых идей, которые в настоящем образуют сумму пересекающихся интеллектуальных традиций. Ограниченность мысли приводит к перечню этико – правовых идей, универсальных по нынешнему умственному состоянию общества. В нахождении этих идей заключается труд юриста – исследователя. Систематическое освоение идей, поиск начал, на которые опирались представители правовой доктрины, помогает понять смысл юридического языка. Рецепция имеет условное значение, полное возрождение юридических понятий невозможно, общие идеи всегда наполняются новым содержанием, называемым трактованием. В каждом новом современном явлении есть как внутренний элемент преемственности, общий с прошлыми феноменами, так и общий внешний элемент, возникший в силу установленных ныне обстоятельств. Методологическая задача правового исследования состоит в установлении как современных характеристик юридического материала, так и его историко – культурного наследия71.
Объясняются правовые нормы приемами описания, анализа, синтеза (с ответвлением генезиса) и детерминации. Эмпирические правила, основанные на отдельных примерах, приобретают в развитой системе научный порядок цивилистических норм. Результаты толкования разнородных явлений одной законодательной системы преобразует, упрощает и объединяет юридическая догматика. Научные (логические) приемы правоведения выстраивают тождество содержания юридических представлений у разных людей. Абстракция позволяет из сложных феноменов вычленить отдельный элемент, который изучается в двух формах: обособления (изолирование одного аспекта) и генерализации (обобщение нескольких частей феномена). Детерминация добавляет новые элементы к результатам абстрагирования с помощью коллигации (суммирование разнородных характеристик в одном объекте, в нашем случае – судебном институте) и спецификации (выведение из принципов законодательства категории доброй воли в судебной деятельности). Полученные результаты исследований именуются дефинициями, ставящие диагностическую (проблемную) характеристику явлениям, которые согласованы в номенклатуру классификации. Накопление большого числа новых цивилистических феноменов доброй воли, включенных в догматику, становится частью юридического конструирования, использованного в законотворчестве. Игнорирование правового положения доброй воли делает законодательные нормы устаревшими, искажает смысл действующих принципов и поощряет догматические фикции (намеренно неправильные конструкции). Введение термина доброй воли только начинает процесс его юридического толкования и логического обоснования в гражданско – правовых нормах. В итоге методологии, теоретические понятия имеют силу для каждого правопорядка72.
Научные знания о мире не могут быть прочными, как и постоянно изменчивый естественный порядок; решение этических проблем связано с признанием и изучением биологии, социологии, наук об интеллектуальной оценке явлений (логика, гносеология, аксиология)73. В силу императивности авторского подхода, из перманентных методов в работе использован ассертивный, сущностно входящий в сложившееся соотношение доброй воли и права, и органический, который координирует направление исследования в рамках единства социальной системы права и этики.
Новизна диссертации:
1) Впервые в отечественной юриспруденции прослежен исторический путь в России моральной идеи «добросовестность», законодательного понятия «добросовестность» и синтез этих полисемичных дефиниций в современной кодификации.
2) Разделены категории «добрая воля» и «добросовестность». «Добрая воля» исходит из древнеримского понятия bona fides, и ближе по значению к юридической разумности (см. выше лингвистическое определение объекта исследования), а «добросовестность» – исконно русское понятие, запечатленное в нравственно – правовых практиках судебного института и общественно – философской мысли.
3) Юридические явления, в частности российского цивилистического законодательства и гражданского судопроизводства, рассмотрены сквозь влияние на них феномена доброй воли с точки зрения возникновения правовых идей, исходящих из индивидуального мышления и группового творчества авторов законов.
4) Феномен внутреннего убеждения судьи исследован в совокупности категорий «усмотрение» и «добрая воля», показан естественный характер действия доброй воли, который обосновывает и реализует защиту права в гражданском процессе.
5) Впервые изучен и нравственный, и судебный аспекты понятия «добрая воля». Дефиниция «добрая воля» связана с сущностью права личности.
Теоретическое значение работы заключается в заполнении пробела современной российской цивилистики, связанного с отсутствием парадигмы определения и соотношения доброй воли и права в судебном институте. Кроме того, правовые нормы, внедренные в соответствии с универсальными понятиями этики, противостоят т. н. «новой этике», которая представляет собой первобытный культ смерти, которым периодически болеет европейская цивилизация в самые темные эпохи своей истории.
Практическое значение заключается в поиске средств законной и вместе с тем нравственно обоснованной деятельности в гражданско – правовых отношениях. Рекомендации, произведенные на основе выполненного исследования, создают наиболее полный и текстуально усовершенствованный оценочный образ доброй воли в сфере права. Материалы диссертации предназначены для дальнейшего исполнения вопроса, в т. ч., при составлении лекций, учебников, монографий.
Структура работы. В соответствии с методологией, диссертация построена по дедуктивному пути от общего к частному, от раскрытия соотношения доброй воли и права к примеру этого паритета в судебной деятельности в современном российском гражданском законодательстве. Для этого применен метод параллельной связи идей, с учетом рецепции правовых норм. Первая половина работы раскрывает историко – теоретическое соотношение категорий доброй воли и права, вторая половина собирает разрозненные положения этики доброй воли в нынешних законодательных оценочных формулировках и комментариях к ним. В первой главе проводится общий обзор этико – правовых идей о доброй воли в отношениях частных субъектов. Вторая глава является откликом на правовые идеи первой главы. Если в первой главе показаны основные этико – правовые идеи доброй воли, то во второй разобрано, как эти идеи повлияли на отечественную культуру права, как были критикуемы, развиты и вошли в современную российскую цивилистику. Таким образом, анализируя концепции74 прошлого, мы остаемся в настоящем, которое признает, хранит и практически реализует эти категории через законодательные сборники. И тогда в третьей главе рассматриваются цивилистические судебно – практические аспекты действия судьи при соотношении доброй воли и права.
Глава 1. Обзор этико-правовых идей о роли доброй воли в отношениях частных субъектов
1.1. Древнейшие европейские концепции (до классического Средневековья)
1.1.1. Начала культуры правосознания
Общие понятия о праве, доброй воле и частносубъектных отношениях. – Кельты. – Греческая античность. – Платон. – Аристотель.
Как замечал основатель научной школы русского правоведения В. Н. Лешков, право развивается путем расширения идей от привилегий высокопоставленных лиц к утверждению тех же вольностей для всех людей75. Идеи никуда не исчезают, исчезают и возобновляются трактовки идей. Разбирая основания морали и доброй воли в мышлении первобытных людей, Дж. Леббок полагает, что нравственность цивилизованных народов не многим превышает нравственность дикарей; при отсутствии современного морального воспитания человек приближается к дикому состоянию, при котором воровство, грабеж, убийство, месть не считаются чем – то предосудительным; материальные ценности, естественные и технические знания не делают первобытного индивида высоконравственным76. Вопрос об аморальности этических учений нашего века вовсе не ставится. Дикарям неизвестны нравственные чувства, которые процветают только по мере эволюции цивилизации; высокие нравы, укоренившись в наклонностях инстинкта, делают ненужными строгие законы. Сплоченность общественных групп помогает выжить и порождает понятие о взаимных обязанностях и разграничениях; слабость отдельных индивидов и семей, невозможность жить вне общины приводит к разделению социального и личного – появляются понятия частной и общей собственности. Попытки разрешить конфликты в этой дихотомии создают общественное мнение и суд. Общественное мнение образует категории государственной морали – справедливость, патриотизм, долг и честь77. Для подавления несогласных и принуждения к общей цели нарождающийся государственный аппарат применяет силу – основу любого права78. Г. Тард двойственно определяет общественное мнение как совокупность суждений и как общую волю – совокупность желаний. В организованных сообществах личная воля может стать главенствующей, если соотносится с традициями подчиненных; руководство случайным сборищем неустойчиво79.
Общественные установления, взаимная связь работающих субъектов исходит из идентичности организации живых сообществ, которая присутствует даже у насекомых, лишенных интеллекта. Нравственность строится на более тесном, чем механические природные инстинкты, семейном родстве, выраженном в высших человеческих чувствах, главное из которых – любовь. От любви исходит добрая воля и нравственность как основа естественных нормальных отношений, семьи и успешного продолжения рода. Дикари, находящиеся далеко от цивилизации и близко к природе, не имеют представлений о плохих поступках, совести, раскаянии, прощении, действуют распущенно, не могут понять и не задумываются о морали, о вреде своих действий. Слова «добро» и «зло» представляют из себя метафору, а их определение запутано и неточно; религия также не нравственна – боги жестоки и допускают ущерб и гибель невиновных80. Древнейшие религии никак не были связаны с нравственностью81, мораль развивалась в правовых и философских концепциях.
Леббок приходит к выводу, что диким племенам неизвестна идея нравственности, но известна идея права, пусть и примитивного, исходящего из ежедневного строго регламентированного образа жизни, при которой свобода невозможна, но есть привилегии и ограничения, налагаемые руководством племени82. Мерзкие поступки, свойственные отдельным племенам, говорят не об искажении морали, а об ее отсутствии. Леббок отрицает теорию Спенсера (см. §1.3) о нравственности как о накопленном опыте полезных действий; полезность и нравственность никак не связаны. Вслед за Геттоном83 (Richard Holt Hutton), Леббок видит основания морали в честности при заключении частносубъектных договоров, при которых добросовестное взаимное исполнение обязательств идет на пользу обеим сторонам; далее к честности привязывались понятия справедливости и долга, не совпадающие с личной полезностью. Исток нравственности заложен в каждом человеке, но то, как он трактуется и насколько сложно развита этика, зависит от разработанного в обществе нравственного кодекса84.
Первые цивилизации, распространившиеся по областям европейского континента, заложили фундамент для последующего укрепления этических идей. Европейские цивилизации боролись друг с другом, но сохраняли идейное единство, в европейских народах проявлялась личность при сохранении органического целого. Право отражало все выражения человеческой сущности85. В Европе выделилось четыре культуры – кельтская, греческая, римская, германская. Имея индивидуальные черты и смешиваясь народами, они вывели общие этические контуры, ставшие номостивными в единой европейской цивилизации.
Кельтская цивилизация являлась колыбелью современной европейской культуры86, вместе с тем, отдельно от античных учений складывалась кельтская мысль, которая отличалась от европейской парадигмы, заложенной Аристотелем87. Основными единицами кельтского общества были семья и род, высшим общественным образованием – племя88. Существовало понятие о полноте знаний, которое дает загробное бессмертие и возможность возродиться для участия в исторически значимых событиях своего народа – это принцип тождества личности и общества, напрямую связанный с ролью доброй воли, будет развит в последующей философии других европейских народов. Кельты разделяли право и закон. В силу культа каждой личности, стремления к индивидуальной свободе и презрения к смерти у кельтских народов были развитые представления о правовом обычае, достоинстве человека и помощи угнетенным89.
Кельтское право сохранило первобытные индоевропейские институты, которые были началом европейской политико – правовой системы. У кельтов существовало разделение правовой сферы на идеальное и повседневное. Склонность к классификации законов, заключавшихся в правилах и табу, общий язык обеспечивали единство юридической терминологии и традиции, но монолитной правой базы, на которой могло строится централизованное государство, – не было. В частноправовых спорах ведущее место отводилось ценности и свободе индивидуальной личности и семьи как центра прав человека. Общество не имело легитимных рычагов к исполнению обязательств отдельными единицами социума, человеком и семьей, поэтому значительное влияние на принятие судебных решений имели обычаи и закрепленное в общественной мысли понятия о справедливости, добродетели, чести, свободе, правдивости слов, вера в Истину («справедливость короля», т. е. монархический ритуал обладания суверенитета и доброй воли в лице единовластного правителя, идея, которая будет превалировать в Средневековье). При неравенстве социального статуса практиковались взаимные голодовки для достижения соглашения, а при нанесении физического вреда компенсацией служило гостеприимство и уход за пострадавшим. Всем гарантировалась судебная защита, наличие адвокатов и поручителей по гражданским спорам90. Современная английская правовая система путем традиции находится под влиянием кельтского правового учения, где законники – бритемы (brithem), – которые получали знания обычного права в специализированных школах – являлись помощниками королей в разрешении споров, которые решались с помощью «права справедливости»91. Таким образом, понятие права через имя древнейшего населения закрепилось в названии британского острова и юридических обычаях государства, а специализированная подготовка юристов стала основой английской юридической школы.
Античная юриспруденция не обладала единством идей о правде и лжи, добре и зле, чем была близка к философии. Оспаривание позитивного права в судебных разбирательствах являлось основой работы юристов92. Древние греки не использовали термин «право»93. Существовали единые правовые обычаи, но законодательные нормы у каждого полиса были особенные. При неимении законодательной нормы судьи принимали решение, исходя из понятия справедливости. В процессе правосудия отсутствовала юриспруденция как самостоятельная дисциплина. Дефиниции правильного и преступного вырабатывались всеми свободными людьми, гражданами, в соответствии с личным философским мировоззрением, поэтому сущность права формировали ведущие греческие мыслители. По сути, в массовых судах имело место народное юридическое творчество, обусловленное инстинктивными представлениями и интеллектуальным опытом94. У древних греков не было слов, обозначающих понятия морали и совести95. Гегель полагает, что в афинском государстве времен стратега Перикла существовало единство индивидуальной и общественной нравственности, основой которой была религиозная вера в государственный порядок96, что соответствует государственническим воззрениям самого Гегеля.
Древнегреческая философия выводила природу и нравственность из общего начала, которым объединены все идеи и материя Вселенной97. Пифагор ввел учение о всеобщем сознании человечества, в котором личная воля человека является случайной малозначимой частью. Чтобы достигнуть всеобщей морали, необходимо личное нравственное совершенство98. Ключевыми вопросами афинских философов были нравственные проблемы, задачи разрешения характеристик материи стояли на втором план99. Платоновский Сократ уравнивает категории счастья, чести и справедливости, противопоставляя им несчастье как состояние несправедливости и лжи. Упорядоченность, исходящая из структуры космоса, составляет универсальную основу добра, справедливости, счастья100. Разум Вселенной, νους, есть воля, душа и добро сущего101. В каждого человека помещено осознание универсальной истины, что объединяет человечество. Сущность человека разумна, познание составляет добрые качества этой разумности102. Добрая воля – культура интеллекта103 (правосознание).
По Платону, идея вечна и всеобща. Человек существует благодаря участию в идее человечества, как копия к оригиналу104. Справедливость – это основа, на которой держится сильное общество и великое государство. Понятия справедливости и разумности у Платона напрямую связаны и слиты в поведении идеализированных правителей. Справедливость и разумность (мудрость, рассудительность) государственного устройства вытекают из естественного порядка вещей; главная задача правителей – сохранение природных наклонностей человека путем установления справедливого государства105. Цель этики Платона – эвдемонизм, счастье всего человечества106. Последователи Платона заключали, что существует два типа морали – внутренняя, на уровне чувств (это умеренность, которая означает храбрость, великодушие, воздержание, постоянство, сдержанность, терпение, упорство), и внешняя, выраженная в поступках (скромность, состоящая из справедливости, дружбы, благодеяния, верности, невинности, щедрости и великолепия)107. Синтез красоты и истины есть добро, т. е. эротическое и мистическое созерцание мира108. Гегель замечает, что нравственные вопросы не находят решения у Платона109, поэтому начало современной этико – правовой школы заложил Аристотель, который ввел понятие этического110. Главное этическое произведение Аристотеля – «Никомахова этика». «Евдеменова этика» и «Большая этика» являются переработанными версиями аристотелевского первоисточника111. Творчество Аристотеля, как и у Платона, представляет собой систематизацию предыдущего интеллектуального опыта человечества, включающее, в т. ч., многотысячелетнее наследие культуры памяти, времени, когда не было письменности, но жизненные ситуации являли собой единство мысли, слова, обряда и действия, поэтому, говоря о правовых или этических категориях, рассуждения Аристотеля изначально обращены к реальности повседневности, неслучайно авторитет его фигуры стоит в центре методологии истины и ценностей, уходя как в доисторические эпохи человекообразных, связанный с ними цельностью воли и знания, так и в последующие тысячелетия, в далекое будущее, в котором еще долго будут ориентироваться на аристотелевскую классификацию универсальных явлений природы, человека и социума.
Основа этики Аристотеля – стремление к блаженству112. Понятия «благо» и «добро» в древнегреческом языке не различались. Аристотель возражает Платону, подчеркивая, что добро не может рассматриваться только как нравственное чувство, этику необходимо перевести в область решения практических задач. Категория «нравственность» произошла от термина «привычка» (этос), которая необходима для этической добродетели. Склонность к добру заложена природой и приобретается с деятельностью, если человек не противится заложенному в него благу. Постоянно совершаемое добро вырабатывает добродетельное поведение. Магистральные добродетели – правда и справедливость. Государство правовыми способами обеспечивает эти добродетели, обязанность граждан – исполнять их, стремясь к гражданскому равенству. Этическая норма регулируется законами. Справедливость может быть уравнительной и распределительной. При распределительной отношения между гражданам носят добровольный характер, при уравнительной имеют место акты гражданского оборота, главным образом, договоры, правовую рамку заключения которых вводит государство. В любом правоотношении присутствует минимум два лица и два предмета договоренностей. Следовательно, в каждом столкновении есть два субъекта и два объекта (говоря современными терминами континентально – юридического направления, субъект и субъективная сторона, объект и объективная сторона). С помощью арифметической пропорции находят решение, определяющее внешние блага – распределительную справедливость и фиксированное равенство.


