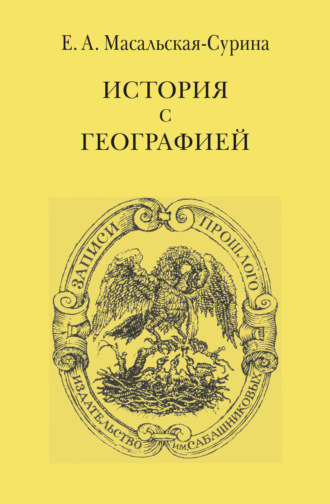
Евгения Масальская-Сурина
История с географией
Глава 10. Сентябрь 1909. Купчая
Теперь, когда Гринкевич одобрил Щавры и подходило время подписать купчую, я решительно не могла противостоять желанию наконец видеть Щавры! Бернович болел в Вильне. Мы списались с Судомиром и восьмого сентября выехали с Витей в Щавры.
У крыльца на станции Крупки нас ожидал экипаж, запряженный парой крестьянских лошадей, потому что экономические лошади уже были проданы. Высланный нас встретить кучер Павел подал мне записку от госпожи Судомир: она умоляла нас не проговориться при прислуге, что мы покупатели, а не гости. Я с удивлением передала Вите эту записку. Отъехав три версты от станции Крупок, мы уже переехали в Могилевскую губернию, затем вновь подъезжали к границе Минской, к лесам великого князя[189] Старо-Борисовской экономии. Затем миновали две-три деревни с толпой ребятишек у околиц; все поля были, видимо, еще недавно под лесом, везде торчали пни или случайно не срубленные елочки. Но вот показались среди полей высокая ограда густых елей и частокол аршин в шесть высоты. Въехав в затейливые ворота, мы подъехали к довольно невзрачному, хотя и обширному деревенскому дому, обвитому густой зеленью. Вокруг сквера перед домом тянулись подстриженные живые изгороди, а за домом стоял такой парк, такие дивные вековые липы, что я невольно вспомнила Берновича, когда в Веречатах он говорил, что Щавровский парк лучший во всем уезде.
Нас встретили толстые супруги Судомиры с двумя худенькими, бледными детьми и не менее толстой сестрой Марии Юльевны Терезой Юльевной Лось-Рожсковской. Я немедленно спросила их, что значит такая записка, на что Мария Юльевна с сестрой в два голоса стали нас убеждать, что их положение из-за кредиторов невыносимо, что мать их, жена маршалка Лось-Рожковского, передала им это имение уже совершенно запутанным, потому что она выдавала векселя и обязательства разным мошенникам, которые их разорили: брали с них сто и двести процентов. Кровопийцы будто взыскивали несуществующие долги по фальшивым документам и могут тормозить утверждение в купчей, так как предъявят сверх двадцать одну тысячу запрещений, уже лежащих на имении у старшего нотариуса, еще столько же документов, которые придется оспаривать, что возьмет много времени.
Обе дамы проливали крокодиловые слезы, жалуясь на свою судьбу, но говорили в один голос, и, видимо, нежная дружба соединяла их вопреки виленским слухам. После этих разговоров, когда даже присылка Зябкинской брички грозила им гибелью (!), мы сочли за лучшее ограничиться одной прогулкой по парку в качестве гостей. Я не решилась, вопреки своему любопытству, даже взглянуть на комнаты в доме. Зато от парка я была в восхищении: дивные темные аллеи, трехсотлетние липы, роскошные каштановые деревья, красивые старые ели, а близ дома много роз, лилий и других многолетних цветов, много уксусных деревьев, кустов жасмина гигантской величины, словом, прелесть! И весь парк с фруктовым садом, занимавший не более восьми десятин, был заключен в непроницаемую ограду. Как жидок был в сравнении с ним Веречатский парк! Из этой ограды за ворота прошли мы только шагов пятьдесят, к небольшой церкви, бывшей униатской, с колоколом с латинской надписью и годом 1610. В деревянной ограде церкви стояли старые, поломанные бурей сосны с гнездом аиста, на старинных могилах лежали камни, полувросшие в землю. Церковь, также и усадьба, отделялись от села небольшой речкой, запруженной плотиной, по крайней мере, мы приняли это за речку, хотя сопровождавший нас кучер Павел заявил, что это лужа, в которой топят деревенских щенят, что вызвало какое-то замешательство, воркотню и еле сдержанное негодование владельцев.
Переночевали мы скверно. Масса мух, слепней и блох. На другое утро мы решили уехать в Могилев, и нас, видимо, с большим облегчением отправили на станцию. В Могилеве Витя побывал у старшего нотариуса для проверки количества запрещений: их было действительно на двадцать одну тысячу; побывал в казенной палате из-за повинностей и в губернском присутствии насчет производства выкупа и пр.; после чего мы вернулись в Минск в ожидании известия от Лели. Леля с Ольгой Владимировной и больным Сашенькой выехал в Петербург раньше семьи и уже в письме от десятого сентября сообщал, что перевел нам пятнадцать тысяч сто восемьдесят четыре рубля, полученные от продажи его процентов (бумаг номинально на шестнадцать тысяч). Его очень огорчала потеря курса в восемьсот рублей, но мы успокаивали его: «Горевать нечего – все это покроется парцелляцией!»
Тем не менее, высылая мне полный расчет одиннадцатого сентября, он заключал: «Пусть это письмо и прилагаемый расчет Северного банка служит исходным пунктом в дальнейших наших расчетах. (Конечно, никакой расписки на шестнадцать тысяч Леля с меня не взял.) Я, разумеется, не могу считать, что вы заняли у меня шестнадцать тысяч рублей, но как говорил, хотел бы иметь те же проценты, что имел в Крестьянском банке. А при расчете окончательном я, конечно, должен буду принять во внимание вашу курсовую потерю. Мы еще увидим, как еще будет рассчитываться с нами банк через пятилетние сроки». Теперь в каждом письме он только просил одно: скорее, скорее заключить купчую.
Об этом заботиться не приходилось: Судомиры прислали заявление, что к купчей они будут готовы пятнадцатого сентября, а Коган все время зудил: «Скорей, скорей, ради бога скорей, а то кредиторы испортят». И мы были готовы к пятнадцатому сентября, хотя после выручки Лели дело было не за деньгами, но за документами. Для того, чтобы не платить семь тысяч пошлины, нужно было представить к купчей свидетельство о том, что мы с сестрой русского происхождения. Но, как оказалось, это было не так уж легко. В свидетельстве саратовского депутатского собрания, которое я выхлопотала и привезла с собой из Саратова, стояло, что мы православные, но не стояло слово «русского происхождения». Об этом в русских губерниях никто и не беспокоится. Но могилевский нотариус и управление банка требовали, чтобы представили такое удостоверение от могилевского губернатора. Будучи с Витей в Могилеве, после Щавровской поездки, мы подали о том прошение могилевскому губернатору фон Нолькену. Очень нелюбезно фон-Нолькен ответил нам отказом. Мы обратились к старшему нотариусу. Он согласился обойтись без разрешения губернатора, но потребовал свидетельства духовного отца и полиции по месту жительства. Первое мы достали, второе вызвало массу волнений Вити: Эрдели, Щепотьев, полицмейстер были в отпуску. Витя поднял на ноги все присутствие, но ничего нельзя было добиться: ни в метриках, ни в паспорте не стояло, что мы русского происхождения. На беду еще Витя сказал, что Шахматовы, возможно, даже татары. A-a, тем хуже! «У нас Богданович татарин, но католик: татары помогали полякам при завоевании России», – слышалось в ответ. Советник правления Юзефович заявил, что он готов дать удостоверение, что мы польского происхождения, что мы Шахматовские, что мы воспитаны в духе польских традиций, потому что все это не связано с преимуществами, которое дает «русское происхождение» при покупке земли в западном крае, но что мы «русского происхождения» он подписки дать не может, хотя в этом уверен.
Упорнее всех был Глинка. Он категорически отказался подписать удостоверение, что мы русские. «Поймите, – убеждал секретарь, – ведь это им семь тысяч убытка». «Тем более! Конечно, я знаю, что они русские, но подписать это… Ни за что! Быть может, Ольга Александровна теперь перешла в католичество?» Наконец вице-губернатор и секретарь выдали нам это злосчастное официальное свидетельство о русском происхождении со всеми копиями, марками и пр. Хотя в нем стояло, что фамилия моей матери Федорова (отчество моей матери Федоровна), что я на девять лет моложе себя, но зато факт русского происхождения, наконец, был засвидетельствован! Урванцев и Вощинин просто из себя выходили, слыша о всех этих мытарствах. Страдательным лицом был Витя, хлопотавший за нас обеих по доверенности. В то же время у него была масса своих служебных дел. Как нарочно, двенадцатого и четырнадцатого сентября у него были экстренные продовольственные совещания, созываемые по случаю продовольственных реформ и введения земства в западном крае. Он должен был успеть все написать, отослать в Петербург и четырнадцатого же числа, в десять часов вечера выехать со мной в Могилев писать купчую.
К этому самому ночному поезду поспел и Бернович из Вильны, а на станции Крупки ввалились Судомир со свояченицей и Коган. В одиннадцать часов мы уже все были у нотариуса Васютовича. Тотчас же был вновь поднят вопрос о разделе аренды и повинностей. Витя опять горячился и опять усматривал в моей попытке его успокаивать соблюдение интересов Судомиров в ущерб своим.
Нам пришлось прожить в Могилеве целую неделю, и я просто не чаяла конца! Нервы у нас всех были страшно натянуты. Витя с болезненной раздражительностью и недоверием, довольно обидным для той стороны, проверял и отстаивал каждый пункт купчей. Судомирам же все чудилась погоня кредиторов, и они высылали к каждому поезду из Орши Кагана, чтобы за кем-то следить. Нас всего более смущали и нервировали эти опасения, эта тайна, которой была окружена наша купчая! Но вместо того чтобы торопиться ее писать, время уходило на бесконечные «перкосердия», начинавшиеся, как только мы собирались у нотариуса. Он, впрочем, нисколько этому не препятствовал, так как у него самого в имении под Могилевом случилось какое-то несчастие, кажется, убийство, так что ему решительно не было времени пристальнее заняться нами: он все время отлучался из своей камеры. Наконец девятнадцатого, в субботу, все было готово. Приходилось пережидать воскресенье, и только двадцать первого купчая была утверждена. В последние два дня тревога Судомира и Терезы, принимавшей живое участие в деле, все росла. Судомир просидел чуть ли не всю ночь, следя за перепиской купчей, не щадя наград засыпавшим писцам. Все трое (Мария Юльевна подъехала из Москвы с расчетом и разрешением банка на продажу имения) ходили умолять старшего нотариуса не задерживать утверждение, а так как все формальности были соблюдены и двадцать одна тысяча на запрещения нами внесена в депозит, то старший нотариус, не в пример прочим, очень усидчивый, вообще с утверждением, говорят, никогда не запаздывал, а теперь, вняв слезным просьбам дам, утвердил эту купчую в тот же самый день, двадцать первого сентября. Тогда только мы и могли телеграфировать Леле и в Губаревку, что купчая утверждена. Тогда же мы передали Судомирам и остальные девятнадцать тысяч.
С нетерпением и тревогой, судя по сохранившемся письмам, ожидали все наши известия об окончании этой процедуры. Купчая, действительно, могла бы сорваться, и тогда бы задаток наш пропал. Мы телеграфировали семнадцатого сентября, но только поздравляли нашу маленькую любимицу Сонечку, которая с Шунечкой и сестрами продолжала еще проводить теплую и ясную осень в деревне.
Но нам пришлось провести еще четыре дня до получения на руки купчей и окончания всех формальностей. Это было очень скучно. Гостиница «Бристоль», кажется самая лучшая в городе, была шумная и неряшливая. Внизу был ресторан с румынским оркестром, приводивший Витю в отчаяние: он находил неприличным и бестактным кушать под музыку «наверное, голодных людей», он платил им деньги и умолял перестать музыку, которая к тому же действовала ему на нервы, особенно визжавшие скрипки. (Впрочем, подобную историю поднял он однажды и у Медведя в Петербурге).
Последние дни в Могилеве были особенно скучны. У нас было много времени ознакомиться с городом, погулять, и погода была чудная. Но «история с географией» что-то не шли нам на ум. Нет слов, что вид на Днепр и на далекое Заднепровье с гористого берега из губернаторского сада был неописуемо красив. Сидя в беседке сада, я пробовал черпать в моем верном «Спутнике» сведения о посещении Могилева всеми царями, начиная с Алексея Михайловича, о том, что Могилев в XII веке был уделом Витебских князей, позже стал Литовским пожизненным владением Елены Иоановны (дочери Иоанна III и супруги Александра Литовского), был бесконечно раз сожжен и разграблен русскими, шведами, казаками.
Вите решительно было все равно! Леля поручил нам разыскать в Могилеве Романова[190]. Леля очень ценил его работы. У нас было к нему письмо с просьбой прислать Леле его сочинения, а нам он советовал посмотреть его замечательный музей при статистическом комитете. Им была собрана коллекция следов доисторического заселения времен каменного века в урочищах близ Могилева. Но Романов был в отъезде, а музей был закрыт. Я пробовала в воскресенье убедить Витю в необходимости съездить за четырнадцать верст в Шклов, в резиденцию Екатерины II во время ее свидания с Императором Иосифом II. Витя же совсем не хотел видеть это имение, купленное у Адама Черторыйского Екатериной для Потемкина, а позже переданное Зоричу. Блестящие празднества Великой Екатерины, роскошные дворцы… На все это он отвечал, что теперь ему важнее Щавры! Впрочем, дворец Зорича был разобран на кирпичи и владельцем бесконечно раз сожженного и разграбленного Шклова теперь был прозаический Кривошеин. Ехать к нему в гости не предполагалось, и вообще Вите было достаточно своей собственной истории с географией.
Встречи с Судомиром после купчей перестали быть бурными. Но мы сторонились их, тем более что Витя особенно невзлюбил Терезу, которая вообще держалась с большим апломбом, большим, чем сестра, и несколько раз осаживала его очень резко.
Наконец во вторник вечером, двадцать второго сентября, нам удалось, закончив все в Могилеве, выехать в Минск, унося самое тягостное впечатление и о Могилеве, и о времени, проведенном в нем. И сны наши тогда сулили нам одно худое: лошади, кресты – все это означало обман, испытание! Видела я во сне большой портрет отца разоренным, видела темный грязный сарай и в нем у стены ряд изодранных хоругвей, икон и темное деревянное распятие во весь рост.
С Витей по возвращении в Минск сделалась краснуха. Урванцев объяснил ее исключительно пережитым волнением и, уложив в постель, прописал ванну, покой и успокоительные капли.
У Судомира разболелась печень.
Леля поздравил нас с окончанием скучной и мучительной процедуры: «Все-таки не очень добросовестные продавцы, – добавлял он, – и как бы не оказалось еще новых долгов на имении. Интересно, как разрешится вопрос о старообрядцах. Значит, теперь надо приниматься за хозяйничание».[191]
Конечно, надо было за это приниматься. Но Судомиры еще складывали свои пакеты и первого октября назначили торги на все свое движимое имущество. Ввиду необходимости обзавестись инвентарем и мебелью, которые Судомиры уступали нам не дешевле четырех тысяч, мы решили командировать к этим торгам Фомича и в помощь к нему послали с ним одного маленького чиновника губернского присутствия, которого Витя отличил во время продовольственной кампании, Митрофана Николаевича Горошко.
Щавровские торги, на которые слетелась вся округа, прошли блестяще, т. е. Судомиры сумели продать весь хлам до последней разбитой рюмки. Фомич задержал для нас самое необходимое, и сравнительно дешево: всю обстановку и посуду за четыреста рублей, старые экипажи и необходимый инвентарь за шестьсот, всего на тысячу рублей. Все же остальное было продано жидам-купцам, окрестным крестьянам, и после торгов непроданной осталась лишь одна бельевая корзина с пузырьками, баночками и старыми рецептами. Но и она была торжественно вынесена из апартаментов и передана, как награда за многие годы самоотверженной службы и преданности Лейбе Шмуклеру, заменявшего Судомиру поверенного, управляющего и, кажется, кредитора, потому что в счет должных ему нескольких тысяч, кроме этой корзины, для него оставлялся старый рояль паненки Терезы, оставленный нам пока на хранение (в надежде соблазнить нас), да и еще какие-то бревна и колеса в амбаре.
Фомич педантично справился со своей задачей, и, по обыкновению, не мог не хвалиться своим умением дешево и умело снабдить нас инвентарем, который, повторял он, Бернович был обязан нам выговорить при покупке имения! Он только не мог простить Горошко, что тот переплатил семьдесят пять копеек за коленкоровые шторы на окна. Воркотня по этому поводу длилась очень долго. В то же время он подметил массу подробностей, о которых рассказывал потом без конца. Особенно поразила его паненка Тереза: старый Стась, тридцать пять лет служивший в Щаврах, еще при жизни маршалка Лось-Рожковского, со слезами просил ее отдать ему ружье, с которым он, как полесовщик, никогда не расставался, не даром, а в счет тех трехсот рублей, которые они же ему задолжали. Но паненка предпочла продать ружье за два рубля наличными приезжему купцу. Не менее искусно выжимал рубли и сам Судомир. Так, он уговорил своего поверенного из местечка Череи, еврея Нанкина, стать на торги громоздкой кушетки, которая совсем не шла с рук. «Эту кушетку они жалеют продавать, – пояснял Нанкин, веря на слово Судомиру, – она им дорога, как историческая ценность: на ней сидела Екатерина II в Шклове». И Нанкин добросовестно подымал на нее цену все выше и выше, веря, что он только подставной покупатель, за Судомира. Но когда цена кушетки была им взвинчена донельзя, он должен был ее оставить за собой, так как Судомир и не подумал себе оставить эту громоздкую рухлядь, а пораженный Нанкин, ничего не понимавший в такой якобы исторической ценности, почти со слезами должен был занять у кого-то денег, чтобы отсчитать их Судомиру, да сверх того нанять подводу, чтобы везти ее к себе за тридцать верст в Черею.
После торгов Фомич продолжал по нашей просьбе сидеть в Щаврах и прислал подробную опись и цену каждой купленной плошки. Он сообщал, что Судомир уже выслал свою супругу с детьми в Киев, сам же со свояченицей не намерен спешить с выездом, и говорит, что в купчей не поставлен срок его выезда из имения, поэтому он может прожить в Щаврах хоть целый год! Когда Витя получил это известие, он вскипятился. Наконец возмутился и Бернович, до тех пор уклонявшийся от всякого отпора Судомирам, будто бы попрекавшим его, как поляка, который стоит за интересы русских.
В тот же день, в сумерках октябрьского вечера, Витя с Берновичем ураганом влетели на почтовых в Щавровскую усадьбу. Им указали резиденцию Фомича в «аптечке», беленький флигелек в саду рядом со сгоревшим барским домом.
Наверное, Фомичу очень нравилась красивая усадьба, но было скучно. Пока жаловался на свою судьбу изгнанника, в доме начались спешные сборы, сновали люди, выносили вещи. В десятом часу вечера к крыльцу подали лошадей. Судомир, уже сидя с паненкой в коляске, послал сказать Вите, что ожидает его к себе проститься. Витя опять вскипятился и решительно отказался.
Тогда ударили по лошадям и умчались к вечернему поезду. Этот внезапный отъезд, почти ночью, очень напоминал бегство, да и был таковым.
На другое утро Витя обошел опустевший дом и усадьбу в сопровождении Берновича и Фомича, потолковали, что предпринять, как начать дело.
Из Могилева приходили странные, хотя и непроверенные слухи. Только что кредиторы Рошковских явились к старшему нотариусу получать деньги по запрещениям, и старший нотариус уже разослал многим из них повестки, как вдруг из Варшавы пришел вексель на сто тридцать тысяч и лег арестом на все запрещения. Так все и ахнули! Бросились к Судомиру, тот объяснил это недоразумением, которое он немедля выяснит в Могилеве. В удовлетворение же одного из самых несговорчивых кредиторов, Судомир отдал часть забора усадьбы, и кредитор явился его разламывать в то самое утро, когда Витя, обходя усадьбу, застал его на месте преступления и поднял такой крик и шум, что кредитор пустился в бегство. После того Витя распорядился приготовить дом для нашего приезда и вернулся с Берновичем в Минск.
Глава 11. Октябрь 1909. В Щаврах
Вопрос о том, чтобы провести вторую зиму с нами в Минске, был поднят Тетей с Оленькой еще летом. Для нас их приезд являлся большой радостью. Не только я, но и Витя их обожал: нам было о ком заботиться и с кем разделять наши впечатления. Теперь, когда в начале сентября Татá уехала с детьми в Екатеринослав к мужу, Минск многое потерял для нас. Сам Шидловский уехал на новое место службы еще в июле, и мы тогда, между хлопотами о Щаврах и Веречатах, сделали им прощальный обед, который, нам показалось, вышел очень удачным.
В августе Ольга Граве стала звать «наших» в Петербург устроиться вместе. Оленька стала вспоминать, что давно не видела своих «душевных» друзей: Корелл, Алтухову, Лидерт и др., что Тетя будет скучать о своих душоночках-внучках, и было решено зимовать в Петербурге, вместе с Граве. Потом в сентябре передумали: в Минске хорошо и покойно, и нас одних оставлять жаль. Решили зимовать с нами в «Гарни». Только Оленька выпросилась съездить на две недели во Владикавказ, к своей приятельнице Марии Степановне Пушкаревой. Ее супруг, теперь генерал в отставке, задумал, ради климата, поместить мальчиков во Владикавказский корпус, что не мешало им тут-то и начать болеть: северный климат был для них куда здоровее. Уже двадцатого сентября по Волге на Царицын Оленька выехала к ним «на крыльях любви», как подтрунивали мы над верной и долголетней ее привязанностью к Марии Степановне. Тетя же, проводив ее, собралась в Минск, хотя по дороге зажилась по обыкновению в Саратове у Адель[192].
В их скучном доме теперь было оживление. Незадолго перед тем кончились земские собрания, и Володя, отказавшись от председателя уездной управы (его очень ценили и любили в уезде), уступил свое место Григорьеву, человеку в Саратове совсем незнакомому. Григорий Гогурин был выбран членом уездной управы. Можно представить его восторг, но он заслужил такой выбор, а что касается Григорьева, то все качали головой: «красный, но не прекрасный». Оленька, которая совсем не выносила его идей, называла его «язычником времен Нерона». «Проводить культуру в народ, но душить своих противников?» – заметила и Тетя. Ей пришлось довольно долго ожидать Г. С. Кропотова. Конечно, все по тем же вопросам школы, питомника в Новопольской школе, жалование учителю и пр.
Как только она приехала к нам в Минск и устроилась в прошлогоднем «апартаменте» своем, рядом с нашими номерами, она выразила желание, не дожидаясь весны, съездить взглянуть на Щавры. Тетушка оставалась все той же отзывчивой, молодой душой. Витя немедля списался по этому поводу с Фомичем, а я позаботилась купить кое-что к нашему приезду в Щавры. Только 10 октября получили мы известие от Ивана Фомича, что дом, очень запущенный, приведен в порядок, т. е. выскоблен и отмыт целой армией поденщиков, и на другой день мы с Тетей двинулись в путь с багажом необходимых дополнительных вещей: ламп, посуды и провизии. Витя не мог выехать раньше субботы, и с нами поехал Бернович, собиравший свои вещи в Вильне для переезда на зиму в Щавры насовсем.
Было тепло и ясно. На станции Крупки ожидала Зябкинская бричка для Берновича и какой-то допотопный фаэтон для нас с Тетей. Впряжена в него была пара заморенных вороных лошадей, взятых у соседа арендатора на пробу. Коган, встретивший нас на станции, очень рекомендовал купить эту пару, потому что кроме сивой тридцатилетней водовозки, купленной Фомичем на торгах, в имении не было ни одной лошади.
Сморенные вороные потащили нас в Щавры, и мы подъехали к крыльцу, теперь обвитому полуоблетевшим красным витисом, при последних лучах низкого октябрьского солнца. На крыльце нас ожидал сияющий Иван Фомич, а рядом с ним, с хлебом-солью Мишка, одиннадцатилетний мальчишка, бывший пастушонок, которого Фомич приучил к себе. Дом сиял чистотой, но мебели было немного, да и та довольно потрепанная, хотя ореховая и красного дерева. Благодаря темным коридорам, низким потолкам и небольшим окнам, уютно устроить этот дом было мудрено.
Зато парк в осеннем уборе был еще прекраснее. Пользуясь чудной погодой, Тетя целыми часами гуляла по расчищенным Павлом дорожкам и аллеям, любуясь красотой и уютностью усадьбы. «С точки зрения хозяина, лучшей усадьбы желать нечего», – писала Тетя Леле и сообщала о наших мечтах видеть в Щаврах и Шунечку с детками весной, до Губаревки, и его самого зимой, Святками. Ничто так не могло понравиться Тете, как эта непроницаемая зеленая ограда, окружавшая усадьбу. Это придавало ей особенный характер порядка и уюта. Во дворе за сквером, но в ограде, были и все хозяйственные постройки, причники, коровники и пр., все пока пустое, ибо, кроме сивой водовозки, Скудомиры оставили из живности одну лишь собачку и двух кошек. Поэтому мы послушали Когана, и, хотя Фомич и Павел ворчали, что вороные – одры – сморены и опасны, мы поставили их до приезда Вити в конюшню и стали их подкармливать. Витя понял, что лошади хорошие, полукровные, и уступались за двести рублей только благодаря своему изможденному виду. Он немедленно велел закупить овса и поручил Павлу приводить их в порядок, сам три раза в день бегал следить за их чисткой и кормом.
Витя, после всех его бесконечных поездок по ревизии, мог опять взять десятидневную отлучку. Ему начинало нравиться в Щаврах. Мы с ним обошли и объездили все имение, широко раскинутое фольварками, ездили даже за двадцать пять верст на Выспу. Так назывался принадлежавший к имению остров десятин в двести на громадном озере Селяве, прозванном так по ценной мелкой рыбке, которой нас соблазняли в озере Миадзоль. На остров вела старинная искусственная дамба, так что мы могли на него проехать в экипаже. Вид на безбрежное озеро в пятьдесят верст длины был замечательный, особенно с высокой горы на острове, со следами былой крепости. Павел пробовал нам объяснять, что это бывшая крепость Стефана Батория. Но подтверждение этому в «Спутнике» мы не нашли. Исторические сведения Павла, вероятно, черпались у Судомира и могли быть равноценны сведениям о кушетке Екатерины II в Шклове.
Иногда и Тетя ездила с нами кататься. Бернович повез нам показать «красу имения» пущу (за три версты). Отчасти вырубленная, пуща была еще богата лесом, и в ней попадались дубы в три обхвата. Теперь, когда мы воочию убедились, что Щавры действительно прекрасное имение, с прекрасной землей, мы предложили Берновичу взять себе всю прибыль, сохранив наш капитал, но за вычетом всех накладных расходов: купчей, куртажей, повинностей и, главное, проценты банку и по семейному капиталу. На заработок за наш риск, наш труд и хлопоты мы себе оставляли одну усадьбу. Бернович был на все согласен, был очень счастлив и усердно ремонтировал себе «аптечку», беленький флигель за сквером, и говорил, что устроится совершенно самостоятельно от нас со своими землемерами, людьми и лошадьми. Фомич должен был переехать со своей семьей в дом, вести хозяйство, счета, кассу парцелляции, заведовать сдачей аренд и сбором посева. Мы слышать не хотели о продаже центра: лучшей усадьбы, «укрытой» и желать было нечего.
Конечно все это отписывалось Леле в длинных письмах к нему, но ответы его, увы, погибли! Он, кажется, еще не совсем был уверен. На Казанскую мы пригласили щавровского священника. Он отслужил нам молебен с водосвятием. Молодой и картавый, он даже не очень занял Тетю. С бывшими владельцами, хотя и католиками, он был в хороших отношениях, а народ в Щаврах он считал диким и вороватым. Обедню мы стояли в своей бедной церкви с униатским колоколом. Теперь мы рассмотрели речку, отделявшую церковь и усадьбу от села. Действительно, гнилая лужа. Недаром кучер Павел, как оказалось, чуть не лишился места, когда в первый наш приезд сунулся нам пояснять, что это не река. Реки в Щаврах не было. Были колодцы и болотные лужи, а подальше – озера.
«А все-таки было хорошо, право хорошо!» – убеждала я Лелю. То же писала ему и Тетя. Ее все занимало в этой новой непривычной обстановке. Она с утра с широкого крыльца, оттененного витисом, за утренним кофе, следила за постоянными передвижениями по двору Вити, Берновича, Фомича. Она лучше нас уже знала, что переживал Бернович в молодости, слушая лекции агрономии в Венгрии. Он бежал тогда из Львова, не выдержав общества сстудентов, которые выпивали по тридцать бутылок на голову. У «аптечки» уже толпился народ, толкуя о продаже земли. Явились покупатели из Седлецкой губернии. Рядом с ним, ДонКихотом, Фомич был настоящий Санчо-Пансо. Он весь день был поглощен хозяйственными делами: запыхавшись, бегал с курами для супа под мышками, гремел ключами по всему двору, поднимал драмы по поводу дороговизны яиц и телятины, сам заказывал обед кухарке Марии и пересматривал каждое яйцо. Мы обедали все вместе, в два часа, в восемь часов ужинали, и это, конечно, было самое оживленное время.
К сожалению, с самого начала, как и следовало ожидать, между Фомичем и Берновичем установилась глухая вражда, и задирой был Фомич, который не мог простить, что Бернович будто сумел нас так «обойти» и занял его место. Придраться к Берновичу он пока не мог, но Бернович вставал поздно, Фомич вставал рано. По этому поводу, неизменно, каждый день, а иногда по три раза в день, Фомич повторял на все лады, кстати и не кстати, что он встал рано или встает рано: «Молочка попил, корочкой закусил и пошел». Этой «корочкой закусил и пошел» он набил нам все уши.
Что касается расчетов Берновича на большую прибыль, то Фомич очень в ней сомневался и постоянно язвил на этот счет, хотя не мог ничего сказать против них определенного, а так… Но когда у нас был поднят вопрос о вознаграждении, он заявил, что желал бы получить от нас, сверх пятидесяти рублей в месяц за управление имением, еще по два рубля за каждую проданную десятину, хотя продажа земли его вовсе не касалась. Витя, как-то необыкновенно любивший этого старика, согласился. Тогда Фомичу показалось, что Бернович все-таки заработает слишком много, и он заявил желание и с Берновича получать по два рубля за каждую проданную десятину, что составило бы уже несколько тысяч. Да кроме того поставил в условие: получение этих четырех рублей за десятину непременно в первую голову, при запродажной, не дожидаясь, когда мы покроем нами затраченный капитал.
Меня взорвала такая жадность, такой эгоизм! Бернович, до сих пор спускавший ему все его выходки, посмеиваясь только над его «корочкой закусил», теперь был задет за живое и деликатно, сдержанно, сумел обратить внимание Вити на то, что «сварливый старик» хватил через край не только в своих требованиях, но и вообще в критике наших действий, т. к. он был не только жаден и мелочен, но и нестерпимый болтун. Чего-чего не говорил он ему же, Берновичу про нас: и доверчивы мы, как дети, и добры, особенно Витя, до безрассудства. И хоть Витя кипятится, загораясь как зажженная солома, но стоит какому-нибудь негодяю поплакаться, и он все ему простит, все отдаст. А уж в деле-то нашем мы ровно ничего не понимаем. Витя, конечно, сообщил мне все эти комплименты. И, несомненно, побежал бы к Фомичу за объяснением, спрашивая имя того негодяя, которому он будто все прощает и все отдает, но Фомич в это самое утро уехал в Минск за женой и за вещами, намереваясь привезти с собой еще какого-то очень преданного ему человека, Викентия, плотника, который за зиму заделает все щели в усадьбе.



