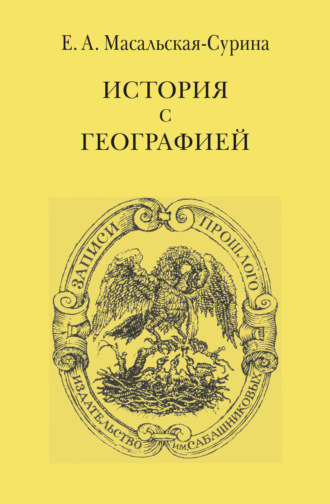
Евгения Масальская-Сурина
История с географией
Не так отнесся к этому вопросу Витя, встречая нас в девять часов вечера на вокзале. Его искренно огорчило то, что я сообщила ему: и свои впечатления, и новые условия Поклевских. Двенадцать тысяч были им уже переведены на задаток в Вильну, все в Минске его уже поздравляли с удачной покупкой, просто даже выходило как-то неловко.
На другое утро, рано, нам подали письмо Кагана. Он сетовал на наше колебание и опасение купить Щавры, горячо уговаривал решиться и просил телеграфировать об окончательном решении. При согласии он немедленно приедет переговорить с нами, а также приедут владельцы Щавров Судомиры. «Ну и телеграфируй! Пусть приедет! Переговорим, что будет!» – решительно заявила я Вите. Правда, при его экспансивности мы становились басней в Минске! А сколько мы уморили комиссионеров! Через полчаса Когану была послана краткая телеграмма: «Приезжайте».
Часть II. Щавры
Глава 9. Август 1909. Запродажная
День 30 июля прошел у нас невесело. Мы решили никому не говорить о постигшей нас неудаче. Уж очень поздравляли Витю с Веречатами в городе и на службе! Никто бы не понял, что причиной ее не одна внезапная перемена условий (Бант, узнав о ней, немедленно бы полетел в Вильно усовещивать панну Козелл и, конечно, добился бы своего), но и то, что в Веречатах мне вдруг стало так страшно, представляя себе принудительную разлуку с Витей, что я не шутя предпочла бы поселиться в хибаре, вроде рыбачьей хижины на берегу озера Миадзоль, нежели в комфортабельном доме Поклевских. Пусть Щавры – разоренное имение, без инвентаря, без лошади и коровы, а дом без мебели, все это не входило в покупную сумму, но Щавры близко от Минска и по дороге «домой», a Веречаты где-то ужасно далеко. Мы будем работать и создадим все нужное для того, чтобы нашим дорогим было и в Щаврах хорошо. Начнем хозяйство с веревочной сбруи, с глиняного горшка: счастье не в золотой клетке и не в золотистых «клячках» мадам Козелл! Сентиментальность, скажут многие, но иные поймут меня.
Утром 31-го мы получили, почти одновременно, две телеграммы. Каган телеграфировал, что приезжает вместе с Щавровскими владельцами, а Бант телеграфировал: «Приезжайте непременно сегодня в Вильну кончать. Козелл согласна на все прежние условия». У меня сердце екнуло. Как было ехать в Вильну? Через два часа приедут Судомиры. И я все-таки в эту решительную минуту боялась настаивать: Вите не понравилось в Щаврах, пусть будет, что будет. Но в это самое время вошел Бернович, рано утром приехавший из Вильны. Все, что он узнал о Щаврах в Вильне, было самое лестное: это было на редкость великолепное дело. Я чувствовала себя почти виноватой в том, что я точно веду интригу с Берновичем против Веречат. Если бы я хотела, одного слова моего было бы достаточно, чтобы вернуть Веречаты, но я боялась их, боялась того соблазна, которое связано с таким богатым имением, полная чаша, где уже все готово, где и мои дорогие нашли бы сразу то, что я для них искала, но ценою разлуки с Витей.
И я ушла на балкон, чтобы не влиять в этом вопросе на Витю, пока он, все еще задетый переменой условий, по своей инициативе телеграфировал ответ: «Подчиняться капризам продавцов не можем. Требуем гарантии, без чего не приедем». Какую гарантию могла дать панна? Бант, конечно, вернется уговаривать и убеждать, а так как при возвращении к прежним условиям не было причины отказываться, Бернович сумел нарочным предупредить панну Козел, что, щадя ее самолюбие, советует ей не идти на уступки. Ему известно ее тяжелое положение, и он ей достанет пятнадцать тысяч под закладную и устроит аренду Веречат с залогом в десять тысяч, что должно ее выручить и сохранить Веречаты для ее внука. Бернович, видимо, волновался: от этих минут зависела его дальнейшая судьба. Не более как через час к нам ввалились вместе с Каганом Щавровские владельцы: инженер-технолог К. Ос. Судомир с супругой (рожденная Лось-Рожковская), дама необъятной толщины, пышущая здоровьем, вся розовая, в громадной шляпе и в костюме по последней моде. Судомиры привезли план всего имения и разные документы. Окончательная цена ими была назначена в сто шестьдесят тысяч за две с половиной тысяч земли и то, благодаря стараниям Берновича. Кагану было назначено по два процента с каждой стороны за комиссию. Судомиры просили дать им десять тысяч при запродажной, сорок при купчей, десять тысяч оставляли на год в закладной и сто тысяч переводили на нас долгом Московскому земельному банку; десятитысячный задаток им был необходим на устройство дел до выезда из имения, который они назначили в течение сентября, после купчей. Все эти условия были приемлемы, хотя для купчей у нас не хватало десять тысяч. Затем Бернович с Каганом выясняли еще какие-то «детали» у Судомиров, количество и сроки платежей процентов, повинностей, пересмотрели контракты, условия и пр. После продолжительного сеанса они пришли нам сказать, что Судомиры остановились в гостинице «Брюссель» и ожидают нас к себе к вечеру чай пить, чтобы продолжить переговоры, которые как будто начинали клониться к благополучному концу. Мы не захотели оставить в стороне нашего Фомича и поехали к нему сообщить о начатых переговорах, да, кстати, предупредить его, что необходимо достать десять тысяч к сентябрю месяцу. У старика водились деньги, и он охотно давал их в рост. Он обещал подумать.
В семь часов вечера мы с Витей отправились в гостиницу «Брюссель», по Захарьевской же улице. Бернович и Каган уже там ожидали нас, и когда они заметили, что дело пошло на лад, они заговорили о необходимости оформить сегодня же у нотариуса наши условия по разделу урожая, аренды и прочих доходов, с одной стороны, и процентов, повинностей и разных обязательств – с другой. Согласно желанию и настоянию всей компанией, мы отправились к нотариусу Малиновскому, где, несмотря на поздний час, все было освещено, и сидели писаря. Приступили к вопросу, как разделить урожай и аренды этого года? Судомиры утверждали, что они не могут нам уступить плоды своих трудов за лето сего года, а мы, покупая имение без инвентаря и дом без мебели, не могли согласиться на то, что должны взять на себя и проценты банку и все повинности, не получая дохода, которым мы бы могли покрыть эти расходы. Вопрос этот был настолько жгучий, что волновал обе стороны. Впрочем, выходил из себя особенно Витя, а Бернович и Коган суетились, более всего боясь разрыва, хотя особенных дипломатических способностей не выказывали.
Еще более волновался Витя, когда оказалось, что в Щаврах имеется четыреста десятин выкупной старообрядческой земли, за которую правительство, не известно когда и по какой цене, даст выкуп – весь фольварк Волковыски подлежал выкупу. Судомиры и наши посредники убеждали нас, что последнее обстоятельство очень для нас выгодно: мы получим все деньги без хлопот прямо от правительства тысяч тринадцать да еще недоимку и проценты, всего тысяч шестнадцать. Но чувствовалось, что в этом вопросе скрыто много темного и страшного. Вообще прения длились долго и подчас становились совсем неприятными, грозя разрывом. Но поскольку все усилия посредников были направлены к тому, чтобы не выпустить нас из рук, то в конце концов были выработаны какие-то компромиссы, не обидные, по крайней мере, казалось нам, для Судомиров. И тогда нотариус заявил, что теперь можно писать запродажную набело. Оставалось согласиться. По-видимому, для этого мы и были приглашены к нотариусу. Около двенадцати часов ночи нотариальная запродажная была готова. Одних марок взыскали с нас на восемьдесят рублей, да и запродажная стоила по двести шестьдесят пять рублей на каждую сторону, вероятно, по необыкновенной таксе из-за неурочного времени. Но мы же нисколько не были заинтересованы в такой экстренности, напротив, нам необходимо было прежде всего согласие Фомича на 10 тысяч, которых у нас не хватало к купчей в сентябре. Только Судомирам необходимо было получить с нас скорее этот задаток, чтобы за шесть недель ликвидировать свои дела и удовлетворить своих кредиторов «по справедливости», пояснили они.
Таким образом, первого августа 1909 года, в двенадцатом часу ночи, мы, совершенно, по правде сказать, неожиданно подписали запродажную на сто шестьдесят тысяч. При этом в задаток передали Судомирам чек на десять тысяч. Остальные сорок тысяч (а у нас их оставалось менее тридцати тысяч) мы обязались передать Судомирам наличными в сентябре, при совершении купчей; сто тысяч переводилось на нас долгом Московского банка и десять тысяч отсрочивалось на год в закладной. Все это произошло так быстро, неожиданно, под натиском Берновича, Кагана и Судомира, что мы не успели опомниться, как попали в западню, называемую Щаврами[181].
«Да так можно и смертный приговор на себя подписать», – рассуждали мы позже. Но теперь дело было сделано, и получался очень неприятный осадок. Не сумели мы с первого же раза осадить их в этой спешке. Кто же так пишет запродажные? Как было не проверить слова Берновича, не взглянуть на то, что покупаем? Но, кажется, на озере Миадзоль кто-то просил Берновича не показывать усадьбы до запродажной. Вот он с Каганом и взял быка за рога. Несколько часов промедления – и сделка бы разошлась. Мы это вполне сознавали и все-таки даже мне это очень не нравилось. Наша роль была совсем неважная. Мы искренне воображали, что Судомиры хотят у нотариуса разобрать вопрос о разделе приходов и расходов, вызывавший гневные протесты Вити, сразу невзлюбившего Судомира. И сознав теперь, вместо того, чтобы остановиться вовремя, я потеряла голову, потому что мне казалось, что Витя наговорит дерзостей Судомиру, Берновичу и все кончится скандалом и дуэлью. Я исключительно думала о том, чтобы умиротворить Витю, менее всего вникая в суть того, что делалось в этой конторе нотариуса.
«Без меня разберутся, без меня образуется, их там четверо мужчин», – думалось мне, а может быть, только чувствовалось, так как думалось мне только, как бы сдержать Витю. Со своей стороны, Судомир был совершенно хладнокровен, но это было спокойствие акулы, готовой проглотить шумевшего и взволнованного Витю. Он смотрел на него пристально так, как смотрит удав на попавшую в сети птичку. И этот страх за Витю совершенно лишил меня разума и душевного равновесия. Иначе говоря, Витя своей горячностью только подвинул дело. Когда же я пыталась его успокаивать, он начинал и на меня сердиться, что я «защищаю, по обыкновению, чужие интересы». Словом, вряд ли у нотариуса Малиновского когда-либо так бурно писалась запродажная. Особенно тревожило нас то, что за поздним часом мы не могли предупредить Гринкевича, нашего Фомича, который семь месяцев разыскивал нам имение. Ведь он переписывал индюшат и поросят в Веречатах, не успел даже взглянуть на Щавры! Когда мы заезжали к нему днем, предполагалось в этот вечер только чай пить у Судомиров, а вовсе не писать запродажную. Он знал даже, мы собирались съездить в музей, где в шесть часов вечера Скрынченко принимал целый архив, когда-то вывезенный из Слуцкого монастыря, теперь уже многие годы валявшийся в минском духовном монастыре. Нет, Фомич никогда нам не поверит, что писать запродажную в этот вечер не предполагалось. Особенно Витю раздражала просьба Судомира не разглашать в Минске об этой сделке. Что за таинственность такая? Почему же скрывать? Кредиторы не дадут утвердить купчую, поясняли Каган и Бернович, и тогда ваш задаток пропадет, пока-то вам придется его отсудить! Мне-то было легко не разглашать: я немедля уезжала в Губаревку, но Вите… Хорошо, что Урванцева была в отъезде. Урванцев же и Вощинин, конечно, немедленно будут посвящены Витей во все перипетии такой покупки Щавров.
На обратном пути мы зашли в кондитерскую Венгржецкого и спросили себе чаю[182]. Бернович куда-то предусмотрительно скрылся. Он вряд ли мог ожидать от Вити благодарности за эту сделку, но, конечно, знал, что иначе Щавры ему бы не улыбнулись. Нерешительность Вити в этом вопросе уже была известна на минской бирже. Теперь уже все комиссионеры махнули на нас рукой и отстали. Последний «срыв» Банта с Веречатами это вполне подтвердил.
Поодаль, за отдельным столиком, уселись и Судомиры. Они были серьезны и молчаливы. Никто бы не подумал, что между нами только что была подписана запродажная, и они, получившие возможность развязаться с имением, душившим их, как уверяли они, и мы, наконец добившиеся «земли», должны были бы чувствовать радость удовлетворения. Но нет, все вышло как-то странно, не по-людски. Курицы не купишь с такой спешкой. «Только так поступают разве оскорбленные невесты с досады, par dépit», – пробовала я объяснить Вите. Нас точно поймали, мы точно дети какие, идя к нотариусу, не понимали, что идем кончать, подписываться под обязательства, которое не сможем исполнить! Где же взять денег к сентябрю месяцу? Теперь Фомич, конечно, их нам не даст.
Когда на другое утро к нам пришел Фомич и мы довольно смущенно сообщили ему, что с нами случилось почти ночью, наш бородач просто обомлел:
– Такая осторожность, мнительность, колебание, опасения. И вдруг такая решимость! Не изучив имение, почти не глядя на него даже! Это просто что-то невероятное! Видно, Бернович здорово сумел вас обойти! Надо же было так слепо ему довериться! – ворчал он без конца.
– Просто потому, что мы потеряли терпение, – пробовала я защищаться, – ведь Вы забраковали сорок имений.
– Да, и были между ними хорошие?
– Да, но я думал, что найду еще лучше.
– Думали, и поэтому измучили нас и три десятка комиссионеров. А сколько это нам стоило денег? Впрочем, так всегда бывает с разборчивыми невестами. Вот и мы с Вами наказаны, а дольше тянуть мы были не в силах. Восемь месяцев жизни исключительно исканием земли. Вы хоть дом свой выкрасили за это время, а мы покоя не знали.
Фомича не обрадовало даже обещание взять его управляющим в Щавры, так как Бернович брал на себя одну ликвидацию.
– Если б я знал (что знал?), я бы уговорил купить и Жадину, и Лауданешки, и другие. Уж, наверное, не хуже, – ворчал он.
– Вольно же, – проворчала и я.
Он был взбешен. Неудивительно, что и все поиски десяти тысяч были тщетны, а его личные деньги уже были пристроены. Этого и следовало ожидать. Зато Бернович явился к нам сияющий. Потирая руки, он уверял, что наше дело на редкость великолепное, и заранее учитывал свой заработок, те пятнадцать тысяч прибыли, которые выпадут на его долю.
Этой прибыли мы совсем не верили.
Как можно было так легко, благодаря комбинациям, нажить 70 тысяч. «Хотя бы свои не потерять», – скептически повторял Витя, к удивлению Берновича, который еще никак не сумел его убедить, что выкупная земля и чиншевики[183] нисколько не повредят делу. «А вдруг вся земля окажется в чиншевиках и старообрядцах?» – говорил Витя невесело, и даже во сне ему мерещились все домики, домики и домики с чиншевиками. Со своей стороны, у меня было какое-то ощущение пустоты: чиншевики чего-нибудь да стоят и все же существуют, а вот это ощущение пустоты, совершенно неясное, представляло мало радости. Но если прибыль – сказки Берновича, все же мы не можем потерять свои деньги. И Бернович не может так ошибаться, он же не берет у нас жалования. Он берет двадцать пять процентов с чистой прибыли. На что-нибудь да он рассчитывает? И тогда мне становилось легче, и я приписывала наше нерадостное отношение к покупке тому, что, с одной стороны, с первого же дня установилась определенная неприязнь Вити к Судомирам и, вероятно, обратно, а во-вторых, этой спешке и своего рода насилию: повели к нотариусу и поздравили с покупкой имения. Наша роль была очень обидная, и это терзало самолюбие. А назад идти было нельзя. Над нами стояла угроза потери задатка в десять тысяч. Судомир, конечно, не вернул бы нам его. А если в сентябре к купчей не будет еще десять тысяч, эта акула беспощадно нас прожует и проглотит. Но где же было взять десять тысяч? Подвел нас Фомич! Всегда говорил, что вложит десять тысяч в имение, которое мы купим.
Так как я собиралась в Саратов все лето, а первого августа был предельный срок, на котором мы помирились (в конце августа я бы уже не застала Лели в Губаревке), то и оставалось немедля ехать в Саратов. Я надеялась там на своих друзей. Витя не мог ехать со мной. Из Петербурга со дня на день ожидалась ревизия Стефановича.
Все «мои», конечно, были в курсе наших дел. Даже более, чем когда-либо, часто и подробно писала я им, и перед самым моим приездом они уже знали, что Веречаты сменились Щаврами, и мы приступаем к делу, начиная с дома. Леле казалось, что мы пустились в какую-то невероятную авантюру, грозившую нам полным разорением. Тетя вздыхала, но надеялась на милость Божью. Одна Оленька верила в успех. «Если Бернович и врет, суля барыши, но все же не потопит нас? И даже что-либо лишнее перепадет pour mes pauvres[184]», – говорила она. Я не упоминаю о Шунечке, потому что она, разделяя волнение Лели, который из-за этих Щавров, Веречат и пр. ночей недосыпал, относилась ко всему этому несчастному вопросу столь неприязненно, что предпочитала даже совсем со мной об этом не говорить. Даже маленькая Олюнчик, когда ей показали присланные мною фотографии имения, серьезно, неодобрительно покачав головой, проговорила: «К чему тете Жене еще покупать имение? У нее есть своя Губаревка». Все это было грустно. Я так была счастлива, что могла приехать в Губаревку с гостинцами для деток в виде меда или минской полендвицы, так отдыхала душой в кругу своей милой, единственной на свете семьи, что сознание, что я омрачаю их покой, очень меня огорчало.
Главное хорошо было в Губаревке то, что вместо обычной к концу лета тревоги из-за погибшего урожая и вопросов, как прокормиться зимой, теперь, после довольно дождливого лета, был дивный урожай. Засуха и жара точно перекочевали за мной в западный край. На новокупленном участке, Корвутовского, и по чищобам[185] в Новопольском лесу уродилось хлеба невиданно много. Крестьяне немедля стали думать о том, чтобы обстроиться, заткнуть все прорехи неурожайных лет. Даже Леля принялся за перекрытие амбара, и я была счастлива, что благодаря командировочным Вити я могла ему оставить на это двести рублей, потому что закончить эту необходимую работу мучало его все лето.
Хорошо было в Губаревке и потому, что поток летних гостей схлынул, и мы были в своей семье, считая и Ольгу Владимировну, которая продолжала свой самоотверженный уход за бедным Сашечкой: ему становилось все хуже. 15 сентября ему уже минет десять лет, а он лежал без речи и без движения. Уход неотступной от него фрейлен Хелены мог вызывать умиление и удивление. Но я не смела наслаждаться Губаревкой. Меня неотступно грыз вопрос: надо скорее доставать десять тысяч!
После нескольких дней передышки я поехала в Саратов к Деконской, надеясь на нее, как на каменную гору. Но она, оказалось, уехала к дочери в Кузнецкий уезд. Сунулась туда, сюда, но ничего не добилась. Вернулась в Губаревку, не зная, как быть. Унывать я не умела и решила скорее вернуться к Вите, который сумел бы так или иначе придумать, что делать. Он писал ежедневно и все убеждал меня, что лучше просить своих, чем обязываться чужим union fait la force[186] и пр. А так как ревизия Стефановича была в полном разгаре, то ему нелегко было бы заняться этим вопросом. Но я надеялась уломать Фомича, взять его участником в нашей ликвидации.
Утром, на другой день после приезда из Саратова, Леля позвал меня на зеленый родник – обычное место наших обсуждений и решений. У него было очень решительное и серьезное выражение лица. Мне даже стало жутко. Леля решительно заявил мне, что считает нас почти погибшими. Никакому заработку Берновича не верит. В лучшем случае, мы вернем свой капитал после невероятных тревог и усилий, выцарапывая его по мелочам. Я пробовала протестовать, ссылаться на привезенный мной доклад Берновича. Мастерски составленный, красиво переписанный на машинке, он мог бы убедить, успокоить Лелю, но Леля скептически относился к нему и не хотел ему даже придавать значения.
«Так вот, ввиду вашего затруднительного положения, – продолжал Леля, – ввиду риска потерять ваш задаток в десять тысяч, я не вижу другого исхода, как броситься в тот же омут. Гибнуть, так гибнуть вместе». Каждое слово Лели резало мне душу так глубоко, что я до сих пор помню каждый оттенок его слов. Поэтому, заключил Леля, он считал своим долгом дать не только десять тысяч на купчую, но и еще шесть тысяч на возможные расходы при ее совершении, то есть весь его именной шестипроцентный билет на шестнадцать тысяч, полученный из Дворянского банка в числе двадцати четырех тысяч за Губаревку.
Слушая Лелю, который не допускал ни малейшего протеста с моей стороны, я не могла отказаться от такого неожиданного спасения, но в то же время чувствовала себя совершенно подавленной великодушием Лели. Он отдавал мне свои кровные деньги, быть может, последние. Мне было бы легче, если бы он, давая их, верил в успех, надеялся на него. Но он не верил никаким выдумкам Берновича и только выручал нас, чтобы мы не потеряли своего задатка. Я опустила голову, как провинившаяся школьница, искала себе оправдания и не находила его. Покупая Веречаты, мы бы обошлись своими деньгами, а теперь начинали с долга, занимая, у кого же? У Лели, который все время так противился покупке имения. Я почти не благодарила его с конфузом. И только бормотала, что он увидит, как я сумею ему заплатить. Кажется, не было жертвы, которую бы я не принесла с радостью для моей семьи, всегда готовой все мне простить, все отдать! Шунечка, закончил Леля, посвящена тоже в его намерение, и она одобрила его.
Теперь, когда я успокоилась насчет возможности совершить купчую, я могла всей душой наслаждаться Губаревкой. Деточки, конечно, приводили меня в восторг, но так как не может человек на земле быть вполне счастлив, то теперь, хотя слабее обыкновенного, я беспокоилась за Витю. Мы писали друг другу аккуратно ежедневно, но стоило почте пошалить, задержаться в дороге, как поднималась тревога, а почта поневоле шалила, когда Витя все время был в разъездах. «Пиши чаще. Ты не знаешь, что я в страхе переживаю, – писал он мне, – мне скучно без тебя». «О, если бы я знал, что мы купим Щавры, я бы лично все осмотрел, проверил бы Берновича вместе с Гринкевичем».[187]
Но памятуя и в дальних своих поездках-командировках, занявших у него первую тереть августа, интересы нашего маленького музея, он съездил сам взглянуть на камень в Погостье Игуменского уезда. Мы уже не раз писали о нем Леле. Леля советовал перевезти его в Минск, но камень оказался слишком большим. К тому же евреи той молельни, при входе которой он лежал, никогда бы не отдали его, потому что, уверяли они, приезжали из Санкт-Петербурга смотреть его и говорили, что на нем высечены те же знаки, что и на монетах времен царя Давида. К сожалению, раввин, который все это знал, недавно умер, а после него никто ничего не знал. Буквы были стерты ногами богомольцев. Раньше этот камень лежал в лесу. Но Витя просил одного молодого любезного человека снять с него фотографию, которая была обещана Леле для рассмотрения гебраиста[188] Коковцева.
Вернувшись в Минск, Витя послал-таки Фомича в Щавры. «Только без критики, – получил он в напутствие, – так как уже поздно». Предстояло ему еще, как опытному лесничему, осмотреть и оценить лес и получить по накладной бричку из Зябок Кехли. Впрочем, ее пришлось оставить у Кагана, в Крупках, потому что Судомиры увидели в ее появлении у них во дворе опасность для совершения купчей (!). Они все еще скрывали продажу Щавров. Но к великой радости Вити, когда Фомич вернулся из Щавров, он был доволен. Земля была отличной, неудобной совсем не было. Цена шестьдесят четыре рубля в округу за десятину была очень дешева. Он пробыл в Щаврах пять дней и оценил лес не дороже 5 тысяч, но что касалось ликвидации земли, то «дело было верное». Все крестьяне округи выражали желание раскупить участки и дачи по сто и сто пятьдесят рублей за десятину. С какой радостью читала я эти успокоительные письма Леле и Тете с Оленькой! Наконец прибыли ожидаемые в Минске ревизоры из Петербурга, и семнадцатого началась ревизия. Щепотьева и Глинку ревизовали Анжу и Мóлоков, Витю – сам Стефанович. Стефанович входил в мельчайшие подробности, ревизуя Витю: вероятно, до него долетало ворчание из-за продовольственной кампании. «После ревизии, сегодня Стефанович сказал мне, что приятно поражен моей трудоспособностью и великолепной постановкой дела у меня, как по судебной, так и по продовольственной части. Кроме того, он находит, что все ревизионные отчеты о земских начальниках самые лучшие и обстоятельные из всех просмотренных им. Затем Стефанович уверял, что подымался вопрос в Петербурге о назначении Вити вице-губернатором в Могилев вместо Ш., получающего скоро губернию. Не говори никому из своих об этом, – заканчивал Витя свое письмо: подумают, что я хвалю себя, в особенности Алексею Александровичу: при его скромности это покажется хвастовством».
После этого письма я уже была покойнее за Витю, тем более что через два дня он опять уезжал из Минска на целых две недели. Теперь он ехал с Мóлоковым на ревизию съездов, волостных правлений и земских начальников. По приложенному подробному расписанию я могла следить за этой поездкой: 22 августа, в субботу, в девять часов утра они выезжали в Борисов и в Борисовский уезд, далее обратно в Минск и в Барановичи, Новогрудок, Несвич и 28 августа – в Слуцк. Затем шла ревизия Игумена и Бобруйска, словом, пяти уездов. Пятого сентября Витя вернулся в Минск утром. В этот день и я вернулась к нему из Губаревки…



