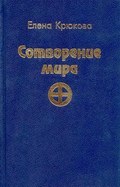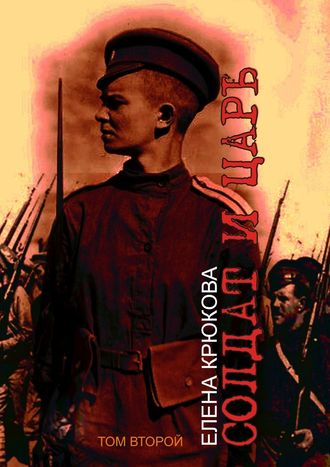
Елена Крюкова
Солдат и Царь. том второй
– Но и ты тоже. И все мы. Была война.
– У тебя так хорошо получалось перевязывать раны. И накладывать мази. Раненые говорили: мне не больно, не больно! А сами белые как мел лежат. И чуть не орут. От боли.
– А ты кем хочешь стать, Настюша?
Возок сильно накренило, и они завизжали и вцепились друг в дружку.
– Вот, я говорила, держись за меня! Я хочу стать цирковой артисткой. И ходить по проволоке! И чтобы все, все на меня смотрели!
– Ох, Stasie… – Татьяна подоткнула кудри под фетровую шапочку с темной вуалькой. – Ты так себя любишь?
– Нет, нет! Наплевать на меня! Я вас, вас всех люблю! Нас…
В возке впереди катили матрос Нагорный, цесаревич и Ольга.
Солнце насквозь пробивало лучами Ольгины серо-голубые глаза, и они светились изнутри. Вот они плыли на пароходе – уже свобода. Вот они катят в этих дурацких крохотных, как для кукол, телегах – свобода! А сейчас будет вокзал, и поезд. И свобода нестись по гладким бесконечным рельсам вдаль, все вдаль и вдаль. На неведомый Урал. Они увидят Урал! И это – свобода. А Дом? Где они будут жить. Что Дом? Дом – тюрьма? Но ведь жизнь – свобода.
…Не ври себе, Ольга, мать там плачет… писала ведь: окна закрасили белой краской…
…За телегами с царскими детьми ехали возки с челядью.
Бывшая гоф-лектриса, старая Шнейдер, ехала вместе с камер-фрау Тутельберг. Фрейлина Гендрикова – с баронессой Буксгевден и нянькой Теглевой. Служанка, девица Эрсберг, тряслась рядом с Пьером Жильяром и камердинером Гиббсом. Генерал-адъютант Татищев – с лакеем Труппом и поваром Харитоновым, и у их ног, на пучке сена, примостился поваренок Ленька Седнев. Поваренок Седнев, пока ехали, то и дело поднимал голову и спрашивал, глядя в скорбные лица седоков:
– А когда в поезд сядем, я с его высочеством смогу поиграть?
Татищев наклонялся к мальчишке, опускал ему картуз на нос:
– Ну конечно! Кто ж спорит! Еще досыта наиграетесь!
…Время то пласталось, прислоняясь, притираясь к земле, то поднималось высоко и расслаивалось, превращаясь в облака, в лужи, в крыши, в людской говор, во всю неимоверную даль пространства.
– Все, выгружайся! Прибыли! Вокзал!
Они вышли из возков – кто выскочил, кто выплыл, кто вывалился, кто ковылял, ощупывая ногами твердую землю. Графиня Гендрикова прислонила руку ко лбу и тихо охнула:
– Боже, как кружится голова!
– Это от дороги, – Пьер Жильяр ловко подхватил фрейлину под локоть, – сейчас пройдет… дышите глубже…
…Поезд был подан для них одних; больше ни для кого. Других пассажиров тут не было. Только они, дети царя и их слуги. В вагон второго класса посадили восемь человек; в вагон четвертого класса – девять. Поваренок Седнев видел – матрос несет цесаревича в другой вагон. Чуть не заплакал, кусал губы.
– Мы в разных вагонах! В разных!
– Да хватит ныть, – одернул его повар Харитонов, – лучше держи-ка корзину с провизией, неси!
Ленька тащил тяжелую корзину и был горд этим.
В корзине лежали: круглые широченные, как острова посреди Тобола, ситные, бутылки с жирным коровьим молоком, заткнутые бумагой, бутыль подсолнечного масла, в кастрюльке – вареные яйца, в пакетах из плотной бумаги – соль и сахар, в высокой стеклянной банке – малосольная рыба кунжа, а еще банка с моченой черемшой, а еще – банка с кислой капустой: в последнем селе, где меняли лошадей, черемшу, капусту и кунжу им принесли крестьянки. Низко кланялись, пятились, когда возки стронулись, утирали слезы.
Харитонов тоже нес корзину. В ней спали вареная картошка и соленые помидоры. И еще пачки макарон, и несколько пачек чая, и банка меда – прощальный подарок старой актрисы императорских театров Лизаветы Скоробогатовой, жившей напротив Губернаторского дома. Лизавета отдала мед в руки смущенной Анастасии, перекрестила ее, земно поклонилась и ушла.
Что-то ведь происходит навсегда. И никогда больше…
Погрузились в вагоны. Паровоз издал истеричный гудок, и поезд двинулся. Сначала медленно, потом быстрее. Колеса стучали, девочки переглядывались.
– Ольга, ты есть хочешь?
– А ты?
– Мы-то ладно. Алешинька, ты будешь есть?
Алексей лежал на верхней полке. Рядом с ним стоял Клим Нагорный.
– Климушка, а если поезд тряхнет, и братик упадет?
Матрос налег грудью на полку, расставил руки, изобразил из себя медведя.
– Да никогда! Вот как я его защищу!
Смех чистый, будто ледяшки или стекляшки перекатываются.
Цесаревич лежал на спине, и повернул голову; глаза закрыты, и вдруг открыл – можно утонуть в этих радужках. Мать передала ему этот, без дна, взгляд. Будто кто-то огромный внезапно вычерпал землю, и туда хлынула вода, и ее прозрачность безмерна: гляди в нее, и увидишь, как на дне ходят рыбы, как горят золотом камни и скорбно шевелятся водоросли. А вот плывет маленькая желтая рыбка, она сама прозрачная, просвечена насквозь – все внутри видать: и скелет, и кишки, и пузырь, и дышащие жабры. У рыбки нет чешуи, она вся слеплена из золотого жира, а может, выточена из желтого минерала.
Так он смотрит. Глаза-озера, глаза-моря.
…эти глаза многое знают из того, что люди еще не знают.
…но его рот об этом молчит. И верно. Ничего говорить не надо. Все произойдет само. В свой черед.
В вагон, где ехал Харитонов, послали гонца – Нагорного. Цесаревича сняли с верхней полки и осторожно усадили на нижнюю. Он глядел в окно, подперев голову руками, слишком тонкими в запястьях. Пришел Харитонов, на вощеной бумаге разложили желтые кругляши картошки, красные мячи соленых помидор, а когда открыли банку с черемшой, и острый чесночный дух наполнил вагон, перебив запах мазута и паровозной гари – все от неожиданности громко засмеялись.
– Ой, что это?
– Это черемша! Сибирский дикий лук!
…И ели, и неприлично облизывали пальцы, и сердито-ласково подавала Татьяна Алексею синие салфетки, вынимая из ридикюля.
Вот, ешьте эту простую, великую, народную еду. Такую еду ест ваш народ. А вы…
…а мы тоже ее едим, мы же всегда с нашим народом, я – с моим народом, и я, и я, и я тоже…
* * *
Колыханье поезда то усыпляло, то раздражало. Колеса били спящих по голове. Рельсы в полудреме становились стальными руками, руки тянулись к ним, вот-вот достанут. Нагорный лег рядом с Алексеем, чтобы он не свалился. Ольга села на верхней полке. Полка под ней скрипела. Несмазанный винт, старый болт. Она боялась: поезд затормозит, и она полетит с полки вниз, и расшибется. Люди ребра ломают, когда с вагонных полок падают.
Спустила ноги. Спрыгнула. Вкусно и сильно пахло черемшой. От них ото всех тоже, наверное, пахнет; черемша крепче чеснока. У Ольги на плечах ажурный пуховый платок. Закутала в него шею, плечи. Носом дышала в шерсть, грела нос.
Кинула взгляд на полку напротив. Глаза Анастасии, бессонные, огромные, как у матери, – иконописные, – уставились на нее.
– Что не спишь?
– Оля, не сердись, прошу тебя.
– Я не сержусь.
– Я не сержу-у-у-усь, – тихонько пропела Анастасия из Роберта Шумана, – и гнева в се-э-э-эрдце не-е-е-ет…
– Тихо!
– Оля. Я вот хотела спросить. Давно. А можно сейчас спрошу?
– Можно. – Ольга наклонилась к ней ближе.
– Оличка… Вот человек бессмертен, да? – Сама себе ответила: – Да. Душа его бессмертна. И все души предстанут на Страшном суде перед Господом, знаю-знаю-знаю! Но бессмертие это одно, а смерть… – Поежилась. Ольга внимательно слушала, не перебивала. – Смерть это совсем другое.
– Кто же спорит, другое, – тихо, почти бесслышно отозвалась Ольга.
Глаза ее во тьме вагона светились то синим, то серым огнем.
– А что, если… когда мы умираем, мы с собой туда – ну, туда – уносим навсегда – ну да, навсегда! – наш конец? Ну, нашу кончину? Ну вот, например, тебя сбило авто. И ты на всю-всю вечную жизнь остаешься это… переживать. Ну, с этой мукой и остаешься – жить – на всю, всю вечность! Потому что это было твое последнее… земное. Или… например… человек решил покончить с собой. Ну решил и решил, смертный грех, все понятно, но ведь самоубийцы – есть! Мало ли вешаются! В реку с моста прыгают… стреляются! Взвел курок… приготовился… пух!.. последняя боль, ужасная… И… он уже там, понимаешь, ТАМ… а эта ужасная мука все длится, длится… и всю бесконечную загробную жизнь – всю-всю! – он ее ощущает. И с ней всю вечность там – на том свете – так и живет!
– Это хуже ада, – медленно и опять почти беззвучно шепнула Ольга.
– Да. Хуже. А вдруг?
Поезд трясло. Ольга и Анастасия обе вцепились в шпингалеты, на которых висели деревянные жесткие полки.
Невозможная нежность высветила треугольное, исхудалое лицо Ольги.
– Но так могут быть наказаны только великие грешники. Праведники – нет.
Анастасия, обеими руками держась за ржавый шпингалет, зашептала быстро, горячо, негодующе:
– Навсегда! Навсегда! Это ужасное слово. Оно ужасно! Вот мы живем, да. Живем. И у нас тоже есть горести всякие, печали. Вот горе. Папа больше не царь. Мама не царица. Мы в ссылке. Мы арестанты. Нас везут на Урал, нас сторожат, над нами смеются как хотят, а недавно солдат Агафонов пырнул меня штыком, так, в шутку, я понимаю. Но так гадко стало. А когда мы ехали в возках с пристани в Тюмени, я посмотрела назад и увидала – подле пристани, у самой воды, лежат… – Она прижала ладонь к щеке. Другой рукой сжимала шпингалет. – Лежат… Не могу… я сразу отвернулась… лежат…
– Да кто лежит, что?..
Анастасия прижала пальцы к губам. И по пальцам, по губам, по ее кругленькому крепенькому, похожему на шляпку боровика подбородку уже ползли белые, блестящие в ночи елочными хрустальными стекляшками, обильные слезы.
– Трупы…
Тряска состава. Путь. Стальной и прямой. С проселочной дороги, с торгового тракта можно свернуть. С рельсов – никогда.
– Люди… Убитые… Оля, их было так много… так!… Я никогда не видела столько трупов. Они… были навалены друг на друга… ну, как дрова… или даже нет… это было какое-то страшное тесто, месиво… и из него торчали ноги, головы… будто люди уже не люди, а так, страшная куча… стог жуткого сена… Я зажмурилась и всю дорогу до вокзала ехала зажмуренная… А меня все Гендрикова спрашивала, и Лиза тоже: что с тобой да что с тобой!.. А вы с Татой… ничего не заметили… а я взяла себя в руки… и даже улыбалась…
Ольга молчала.
– И, когда мы сели в поезд… вот сюда, в этот вагон… я все думала: сколько же народу по всей России убито, умерло! И где теперь все их души! А умерли-то они безвинно, неповинно ведь! Никто не хотел умирать! А их убивают… без счета… никто уже давно трупы эти не считает… И я подумала: а вдруг человек, которого убивают, этот последний ужас – туда – с собой – навек – уносит! И там с ним – так и живет душа! Так и кричит: не убивайте! Не убивайте!
Ольга молчала.
Шторки по краям вагонного окна, грязные и измусоленные, были перевязаны лентами и походили на придворных дам, брезгливо поднявших подолы при переходе через вешнюю лужу. За окном неслись поля, степи, сосновые боры, увалы. С полей еще не весь сошел снег, и земля глядела черными яминами глаз из-под грязного, бывшего зимою чисто-белым, снежного монашьего плата.
– Но это если… если грешник, сказала ты… И не могут, не могут же все люди в России – и на всей, всей земле – быть грешниками! Значит, и святых расстреливают! И просто – людей, простых людей, никаких не святых, а простых, и даже, может, в Бога не верующих! Вот наш Друг, он был святой. И его – застрелили! Такого прекрасного! Алешиньке теперь без него… так трудно, невмоготу… он же вылечивал его… он же – молился… А за этих всех – за те трупы – кто молится?! Зачем они там лежат, около пристани? Зачем везде, всюду лежат? А вдруг их души… живые… теперь так и живут там, и мучатся?.. и навсегда… и никогда не остановить, не прекратить… этот ужас…
Выпустила из руки шпингалет. Резко, быстро легла на полку и отвернулась лицом к стене.
Промелькнул в окне малюсенький, как скворешня, разъезд. В домике горело окно. Оно горело так красно, кроваво, будто крови налили в банку и банку подсветили с днища ярким прожектором.
Снега перемежались черной оттаявшей землей, земля – последними снегами. Паровоз дымил, гудел, и черный дым заволакивал стекла, а ветер снова протирал их. Гудки разрезали слух и душу на куски, как горький пирог.
Ольга молчала.
* * *
Ночь, и звезды падают с зенита, будто в них стреляют; выстрел, и одна упала, выстрел – вторая.
За революцию так все привыкли к пулям и трупам. «Пуля», «труп», «смерть» – обыкновенные слова, не лучше и не хуже других. В мирное время опасались болтать о смерти всуе; она была тайной за семью замками, свечами панихиды, ночной Псалтырью. А теперь? Убили того, другого. Тюкнули. Шлепнули. Кокнули. Отправили в расход.
Менялся словарь, и менялся так быстро, что уследить за пытками языка было невозможно.
Убивали один язык, нарождался другой.
Но, пока царила смерть, не рождалось ничто.
Ночь, и поезд брякнул барабанами колес и встал. И более не шевелился, не вздрагивал.
Поезд – убили.
– Поезд убили, – во сне пробормотала Анастасия и перевернулась на другой бок.
Ее Ольга расталкивала за плечо:
– Настя, проснись. Стасинька, проснись! Анастази!
Стонала, во сне же отбрыкивалась.
– Спать… спать хочу…
– Стася, приехали.
Все поднимались с полок, заспанные, суровые, кто с обиженным лицом, кто с ясным, смиренным взглядом. Нагорный одевал цесаревича. Алексей, сонно глядя, как дядька продевает ему руку в рукав, говорил:
– Не надо, к чему эти заботы, я сам.
Татьяна уталкивала дорожные мелочи в баул. Нагорный метнулся:
– Позвольте, я застегну замок. Я сильный.
Цесаревич еще спящими, вялыми пальцами застегивал пуговицы на сером длинном френче.
– Где моя фуражка?
Он носил военную фуражку. Он хотел стать военным, как отец. А потом менял решение: «Я буду строить корабли! Морские, океанские, большие!»
Ночь, и запасной путь.
– Где мы?
– На запасных путях, как будто. Вокзала не видно.
– А может, с другой стороны!
– А сколько сейчас времени, господа?
– Сейчас гляну. Брегет… где брегет…
– Потерялся?
– О нет. Вот. Ого-го! Два часа пополуночи.
– Два часа, это уже сегодня, девятое мая…
– Святитель Николай. Никола Вешний. Помолимся.
Девушки и Алексей перекрестились, а Анастасия начала читать неожиданно ясным, звенящим голосом, на весь вагон:
– Радуйся, избавление от печали; радуйся, подаяние благодати. Радуйся, нечаемых зол прогонителю; радуйся, желаемых благих насадителю. Радуйся, скорый утешителю в беде сущих; радуйся, страшный наказателю обидящих… Радуйся, Николае, великий чудотворче! Радуйся, Николае…
За окном дождь. Он идет и идет. Моросит, безысходно и бесконечно. Зачем он возник? Заморосил? Он укрывает тонкой пленкой слез весь этот непонятный Урал, и пути, и селедочные узкие рельсы, и пропитанные мазутом, как черным маслом, шпалы, вымачивает деревья и крыши в этом беспредельном небесном рассоле, поливает землю, а земля все впитывает, она все поглотит, и дожди и снега и трупы, и даже времена, и кружева и красные звезды, эти страшные пентаграммы, ей, молчащей на полмира, черной, грозной, бесповоротной, всегда ждущей, никогда не сытой, ей все равно.
– Настя… Тебе удалось уснуть?
Ольга нашла ее руку. Какая тоненькая рука. В запястье не дай Бог переломится, как ножка богемского хрустального бокала.
– Да. Немного. Мне снился сон.
– Почему ты прячешь лицо? Ты плачешь?
Ольга подняла ее опухшее лицо за подбородок, вынула из кармана кружевной швейцарский платок и крепко, царапая жестким кружевом ей щеки, вытерла ей слезы.
– Это ничего. Пройдет.
– Все пройдет, пройдет и это.
– Это царь Соломон? Надпись на кольце?
– Это кольцо раньше носил царь Давид. Его отец.
– Оля, я хочу перечитать Псалтырь.
– Всю?
– Ну не всю сразу, конечно. Хочу пятидесятый псалом… тридцать второй… восемьдесят пятый… и еще девяностый.
– «Живый в помощи Вышняго»? Ты разве наизусть не помнишь?
– Боюсь запнуться.
– Ну, слушай.
Ольга шепотом читала Девяностый псалом. Клим дышал на стекло, крепко протирал его рукавом. Алексей тихо смеялся:
– Клим, дождик-то снаружи.
Фонари на далеком, невидимом перроне разливали неясный свет над рельсами и крышами вагонов. В их вагоне бойцы растопили котел и, кажется, грели кипяток. Пахло дешевым чаем, дух как от заваренного веника.
– Попросить бы у них чайку, – очень тихо, одними губами, боясь помешать чтенью псалма, прошептал Алексей на ухо дядьке.
Нагорный плотнее прислонил губы к уху цесаревича.
– Что? А, чаю. Можно. Я сейчас спрошу.
Встал, большой, плечи раздвинули воздух. Попятился, прижав палец ко рту. Потом вразвалку двинулся по вагону, подошел к горячему котлу, в нем уже булькала, шипела вода. Рядом никого. Нагорный рубанул ночь легким вскриком:
– Эй! Кто-нибудь!
В тишине, за обитой телячьей кожей дверью, послышалось ругательство. Высунулась голова красного солдата, без фуражки.
– Што ищо?! Почивайте! Ищо дозволенья не дадено.
– Какого дозволенья? Чаю-то попить?
– Дурак! На землю сойтить!
– Так и будем тут ночку коротать?
– Видать, так.
– Дай хоть кипятку.
– А заварка-то у вас е?
– Ежели отсыплешь – благодарен буду.
Красноармеец опять выругался.
– Подставляй горсть.
Нагорный подставил. Боец сыпанул ему в ладонь жменю чаю.
– Хорош, будет, спасибо.
– Бог спасет, – сказал красноармеец и спросил: – А кружки е? Стаканы там?
– Есть, братец. Все есть.
– А, это, папироской не угостишь? Баш на баш.
– Не курю. Но добыть могу.
– Добудь, моряк, поплавай по морям.
Нагорный вежливо затворил дверь в служивое купэ и двинулся с горстью чая к сестрам.
…Насыпали чай в дорожные стаканы. Нагорный пошел к котлу – заваривать. За ним побежала Анастасия. Потом двинулись по вагону Татьяна и Ольга – два белых призрака. Чтобы обрадовать мать и отца, надели в дорогу лучшие платья: из белой холстины, обшитые вологодским кружевом. И теперь, в ночи, летели по вагону две белые бабочки: то ли живые, то снятся. А может, ангелы. Да нет, сестры милосердия. Чаю им! Горячего! Когда еще попьют.
…а может, души ожившие; и тоже чаю хотят, только сахару нет. Ни комочка.
А если и есть – весь соленым ночным дождем вымочен.
Заварили. Пили. Нагорный громко прихлебывал. Алексей строго наступал ему на ногу ногой и делал круглые глаза. Потом прыскал в стакан, и тогда уже грозила пальцем Татьяна. Ольга глубоко погружала глаза в заоконную тьму.
…Пассажиры вагона четвертого класса тоскливо глядели в мокрые окна, как пассажиры вагона второго класса идут, волоча ноги по кислой гречневой каше непролазной грязи, – ноги утопают в родной мокрой земле, а великие княжны волокут тяжелые чемоданы, и у Татьяны в руках целых два, она же сильная, она… как выражается дядька Нагорный… сдюжит; а за пазухой у нее сидит ее чудесная собачка, французский бульдожка Ортино, ты только не лай, милый, ты утро потревожишь. И этот вокзал, где он, его не видно. Может, это вокзал-призрак, как все здесь; а может, его совсем нет.
Маленькую болонку Джимми, чтобы не придерживать рукой, Настя посадила в платок и узел завязала сзади себе на шее. Усмехнулась: как повязка-косынка, у раненых, если в руку солдата ранило.
В такой же повязке, как в нагрудной кошелке, Ольга тащила спаниеля Бэби – Джоя. Джой время от времени беспокойно взлаивал.
Дождь бил молоточками в землю, вода стекала с мокрых собачьих морд, земля раскисала, потом загустевала, в нее можно было окунать ложку и швырять ее на сковородку, и выпекать черные блины. С коркой прошлогодних листьев. С солью прошлогоднего снега. Под дождем быстро снег исчезнет, последние его клочья.
Сестер опередил Нагорный. Он нес Алексея. Так несут хрустальный кубок. Где же пролетки? Или опять эти нелепые возки, подобные тобольским и тюменским диким кибиткам? Охрана сказала: сядете в пролетки, они на перроне, за тремя составами. Обойдите составы, и все сами увидите. Утро, дождь и слякоть. Татьяна чувствовала у груди тепло собаки, а глаза ее ловили плывущую в мареве дождя широкую, как баржа, спину Нагорного. Вон он, перрон, его серая плаха. И правда, пролетки. Даже с тентом, о счастье, они укроются от дождя. Зонты у них с собой, в чемоданах, но сейчас несподручно их вынимать. Грязь! Всюду грязь. Великая грязь. Уж лучше снег. В снегу тоже можно завязнуть.
Нагорный о чем-то сердито говорил с конвоем на перроне. Махал руками. Мокрые ленты его бескозырки ползли на плечи черными ужами. До Татьяны донеслось:
– …бессердечные твари!
И следом – громко, на весь перрон, чужой голос, и услышала не только она, но и сестры:
– Это пусть ваши твари, голубая кровь, сами несут свои чемоданы!
Анастасия запунцовела. Ольга, напротив, побелела.
– Мы уже твари, – прошептала она. Нога утонула в грязи. Она вытащила ногу, и грязь гадко хлюпнула.
А может, мы драконы. Или хищные многозубые щуки. Или ядовитые змеи, и ползем, ползем по этой грязи, по этой сырой и волглой земле, и ищем, кого бы смертельно укусить. Нет, мы вурдалаки, и мы питаемся покойниками, разрываем свежие могилы. Нет, мы чудовища гораздо страшнее; нам нет имени, известно только, что у нас голубая кровь, и в этом единственная наша вина. Нет, мы…
У пролеток стояла новая, неведомая охрана. Глядели уныло, исподлобно. У кого винтовки за плечами, у кого наперевес. Будто за цесаревнами кто-то черный идет; видимо, заговорщик. И вооружен до зубов. Нагорный мерил диким взглядом человека, что держал лошадь под уздцы. У человека над слишком высоким, будто он болел водянкой, выпуклым лбом торчали вкось и вверх безумные волосы. Волос было так много, что войди в них – и заблудишься. Человек возвращал матросу такой же дикий, расстреливающий взгляд.
По их соединенным взглядам можно было пройти, как по веревочному мосту над пропастью.
Глаза, ведь это почти огонь. Они сожгут все мосты, если надо.
– Комиссар Ермаков! – крикнули от второй пролетки. – Рассаживай арестованных!
Татьяна подволокла оба чемодана к пролетке. Бульдог у нее за пазухой высунул большеглазую гладкую, курносую морду и бешено, ненавидяще залаял.
– Тихо, Ортино, тихо, тихо… А то тебя убьют…
– Заползай! – истошно крикнул комиссар Ермаков и указал пальцем на пролетку. – А лучше – прыгай живо!
Татьяна, еле дыша, взгромоздила один чемодан в пролетку. Ермаков стоял и смотрел. Он напоминал ожившую тумбу на базарной площади. Бешеные глаза, бешеные руки. И собака лаяла бешено, будто старалась попасть с чужим бешенством в одну ноту.
– Таточка, миленькая, – уныло сказал Алексей. – Я же не могу тебе помочь, это мне тяжело… а я – калека…
– Ты не калека! – громко крикнула Татьяна. По ее вискам тек пот. Она втащила в пролетку второй чемодан. – Никогда больше не говори про себя так! Товарищ комиссар! Тут больше места для людей нет!
Ермаков указал Ольге и Анастасии на вторую пролетку. За этими экипажами стояли еще три.
В первой пролетке восседал под дождем комиссар Белобородов, начальник всего Урала, весь Урал под ним, под красным царем.
А комиссар Ермаков глянул на Белобородова так, будто бы это он, Ермаков, тут один царь. И других тут быть не должно.
– Что возитесь?! – во весь голос крикнул Белобородов. – Я весь вымок! Хоть выжимай!
– Трогай! – крикнул Ермаков кучеру так, будто орал: «Убирайся!»
Лощадь заржала и рванула. Пролетка с наследником и Татьяной тронулась.
Ольга прыгнула в пролетку первой и подала руку Анастасии. Джой весело тявкнул. Джимми отозвался.
– Настинька, давай, ты же ловкая…
Анастасия, придерживая на груди повязку с Джимми, взобралась и отдула со щеки прядь, выбившуюся из-под шапки.
– О да. Я такая ловкая.
– Собачницы хреновы! Мало им вещей, псов за собой тянут!
Ермаков махнул рукой, будто в бою, в кровавой каше рубил чью-то зазевавшуюся голову; тронулась пролетка с сестрами. Лошади шли одна за другой, ветер дул в лицо, и Татьяна одной рукой обняла Алексея за плечи.
– Алешинька, скоро увидим мама и папа. И Машиньку.
– Я по Машке соскучился. Очень.
– И я тоже.
Мокрые хвосты лошадей и мокрые их спины растаяли в серой измороси.
– Выводи! – крикнул Ермаков охране вагона четвертого класса.
И вывели их всех – царских слуг, верную свиту, верных, жалких, беспомощных, с бегающими глазами: куда это нас привезли?.. Боже, какой дождь и туман!.. – всех их: фрейлин и поваров, лакеев и гувернеров, графинь и статс-дам, солдат и генералов – и вся вина их в том, что они царские, бывшие, бросовые, дешево и сердито позолоченные; а позолоту стряхнуть, а взять на прицел, да только не здесь, хотя перрон весьма удобен для расстрела, – надо обождать, сделать все по закону, а закона-то нет, каждый сейчас сам себе царь, и кто над ними тут царь? – да он, Ермаков, – а они, отребье, огрызки, вон идут, ноги волокут по размытой дождями земле, оступятся да в грязь упадут, а туда им и дорога, ибо грязь они, грязь и плесень мира, и как можно скорее надо с этой плесенью расправиться, чтобы легкие свободно развернулись и сердце пламенно забилось под красной, свободной звездой.
Комиссар Родионов глядел еще человеческим лицом, а комиссар Ермаков – бесьим.
– Бес, – сказала графиня Гендрикова и тайком, мелко, перекрестила грудь.
Солдат Волков сказал:
– Госпожа Гендрикова, я вот из вагона… варенье захватил…
И протянул банку с запекшейся черно-красной, ягодной кровью.
– Это – вам…
Графиня не успела вымолвить «вот спасибо». Скорым шагом подошел Ермаков.
– Что это у вас?! Нельзя! Запрещено!
Вырвал банку из рук Волкова. Сунул в руки подбежавшего охранника.
– Жрите, к чаю. Все из вагона вышли?! Пересчитать еще раз! По головам!
И их, как скот, считали по головам.
– Раз, два, три, четыре, пять, шесть… семь, восемь, девять… Рассаживай!
Впереди трясся в пролетке Белобородов. Конвойные, на конях, скакали по обе стороны кортежа.
– Нас как в гробах везут, хоть мы и живые, – няня Теглева обернула мокрое лицо к графине Гендриковой.
Графиня сжала руку няньки. Они обе глядели на чужой дымный город Екатеринбург. Дома, и трубы, и колонны, и крыльца, и мокрые деревья, и заплоты. Стекла блестят, как слезы. Вот встали около глухого высоченного забора. Дома за ним не видно. Здесь сойдем? Выйти Харитонову и Седневу! Остальным оставаться на местах! Вперед!
И ехали вперед. И приехали. Вышли все, щупая ногами мокрые, положенные на грязь доски. По дощатым тротуарам гуськом прошли в каменный дом. Над дверью – красная тряпка. Красный ситцевый передник грязной поварихи. Весь вымок. А, да, это их новый флаг. Это теперь флаг нашей России. Со святыми упокой. С чем, с чем?! Шептаться – отставить!
Комиссар Белобородов спрыгнул с пролетки на землю. Глядел на людей, как на вещи: эта стоящая, эта чуть подороже, а эта просто хлам. Зычно прокричал:
– Открывай ворота! Арестантов – принимай!
Ворота заскрипели. Их отворяли. Навстречу привезенным вышел приземистый, толстобрюхий человек, живот у него нависал над туго стянутым ремнем. Пряжка ремня горела в дождевой хмари медно-красным раскаленным углем. Толстобрюхий издал натужный вопль:
– За-а-апускай… арестованных!
– Где мы, Господи? – прошелестела баронесса Буксгевден. Рубиновая серьга у нее в ухе больно, жарко сверкнула. На серьгу взглядом василиска смотрел Белобородов.
А сзади него – глазами и шевелящимися пальцами, руками – уже раздевал женщину, уже пробовал на вкус безызвестный охранник со щеткой усов под висячим носом, с оспинными рябинами по всему широкому, как медный казан, лицу.
– Мы в тюрьме, – отозвался генерал-адъютант Татищев. – От сумы да от тюрьмы в России – не отрекайся.
Комиссар Белобородов радостно засмеялся.
– А я в тюрьме родился благодаря вашему чертову царизму.
Граф Татищев кусал губы.
– То есть как? Правда? Вы… родились в застенке? В… тюремной камере?
Белобородов продолжил смех, смех извергался из него мощно, искренне, длинно, ему не видно было конца, и Татищев терпеливо ждал – так пережидают заливистый лай собак на охоте, когда они дружно и бешено поднимают волка.
– Тюрьма – вся наша родная страна. Вся Россия была тюрьма! Непонятно?
Опять хохотал.
Смех его когда-нибудь кончился.
И в наступившей тишине, под дождем, во дворе екатеринбургской тюрьмы, около пролеток, что доставили их не к любимым царям, а в каменную пасть красного зверя, граф Татищев отчетливо, по-армейски, сказал, глядя в самую середину мокрой фуражки комиссара Белобородова, в черный мокрый козырек:
– Очень даже понятно. Понятно все. Вы доделаете то, что мы не успели. Переймете опыт. Вы изо всей России сделаете образцовую расстрельную тюрьму.
Белобородов заорал:
– Молчать!
Граф Татищев усмехнулся и развел руками, будто проиграл в вист или в преферанс лучшим друзьям.
Потом выпрямился. И ни одного ордена, ни одного креста на груди, а всем почудилось – его грудь в орденах. И обливает, поливает их слезами нудный, обложной дождь.
Генерал и комиссар мгновение молча глядели друг на друга.
Татищев тихо сказал, и Белобородов услышал:
– Рот не заткнешь мне, холоп.