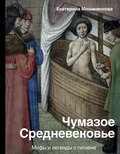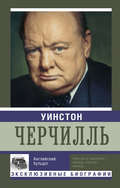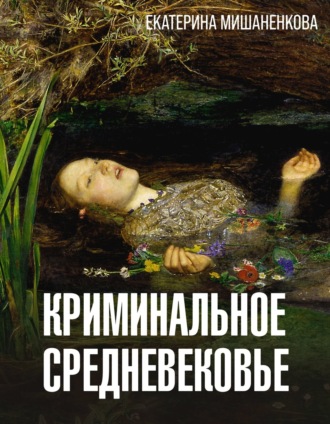
Екатерина Мишаненкова
Криминальное средневековье
Стереотипы о Божьем суде
Любопытно, но Божий суд – это тот случай, когда стереотипы и мифы вокруг него особо никто не создавал и почти не раздувал (ну, кроме литературы, кино и сериалов), они сложились сами из-за скудости информации. О нем есть масса статей – как в серьезных научных трудах, в том числе по истории права, так и в научно-популярной литературе. Но все они касаются в основном процедуры, то есть примерно того же, о чем я тоже уже написала – какие были виды ордалий, иногда – кто их назначал и как они проводились.
А вот о том, как часто они назначались, в каких случаях и чем заканчивались, информации практически нигде нет.
По большому счету очень мало где упоминается хотя бы то, что Божий суд был последним вариантом, который использовали лишь в случаях тяжких преступлений и только тогда, когда не было никаких других способов подтвердить вину или невиновность обвиняемого. Человек обращался к Богу как к последней инстанции, когда иного выхода уже не было, точно зная, что если Бог его не поддержит, это означает смерть.
Поэтому у многих людей складывается впечатление, что в раннем Средневековье все судебные вопросы, споры и тяжбы решались Божьим судом. И в основном поединками – кто сильнее, тот и прав.
Вторым и третьим стереотипами можно назвать уверенность, что испытания огнем, водой, раскаленным железом и т. п. – это изобретения инквизиции, придуманные с целью побольше помучить невинных людей. Что тут скажешь? Это как в анекдоте про человека, выигравшего в лотерею машину, который на самом деле играл не в лотерею, а в покер, не на машину, а на квартиру и не выиграл, а проиграл. Понятно, что инквизиция тут совершенно ни при чем – ордалии характерны для германского варварского права и применялись все раннее Средневековье, а инквизиция была организована в 1215 году, как раз тогда, когда церковь ордалии запретила. Фактически инквизиционное расследование пришло на смену ордалиям, но об этом я еще напишу подробнее.
Ну и четвертый стереотип – что ордалии обычно заканчивались смертью обвиняемого. Если он не погибал сам – от ожога или не тонул при испытании водой, то его все равно казнили. Ясно же, что нормальный человек не может без ущерба совать руку в кипяток или держать раскаленный кусок железа!
Удивительные факты
Статистики по ордалиям сохранилось не очень много, все же раннее Средневековье – период, когда с письменностью были большие сложности, да и пергамент стоил очень дорого. Однако кое-что все-таки есть. Джон Хостеттлер – британский юрист и историк, специалист по истории уголовного права – в своей книге «История уголовного правосудия в Англии и Уэльсе» приводит некоторые данные по Божьим судам в Англии при первых нормандских королях. Ордалии после нормандского завоевания продолжали еще какое-то время использоваться и даже дополнились принесенными с континента судебными поединками, а документировать дела судебные стали гораздо лучше.
В частности, Хостеттлер пишет, что при Вильгельме II Руфусе, правившем с 1087 по 1100 год, было 50 испытаний раскаленным железом. И все (!) они закончились оправданием обвиняемых. Король даже лично выражал недовольство этим фактом и заявлял, что Божий суд ненадежен, поскольку Бога можно поколебать горячими молитвами, и он признает преступника невиновным.
Между 1201 и 1219 годами (они приходились на большую часть правления Иоанна Безземельного и начало царствования его сына Генриха III) из всех обвиняемых, кому было назначено испытание водой, только один в итоге был признан виновным, все остальные были объявлены невиновными и даже вроде бы все выжили. Точного количества испытуемых Хостеттлер не называет, но их несомненно было много. Тут надо знать контекст: в 1166 году король Генрих II принял Кларендонскую ассизу – новый законодательный акт, содержавший инструкции для судебного расследования. По Кларендонской ассизе подозреваемых в преступлении испытывали именно водой – фактически это становилось единственной официальной ордалией в королевстве.
Великая и Кларендонская ассизы (отрывок). Перевод Д. М. Петрушевского. Текст воспроизведен по изданию: Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы.
2. И если окажется, что обвиняемый на основании фактических данных или на основании слухов, на основании клятвенных показаний названных выше, есть действительно разбойник, или тайный убийца, или грабитель, или укрыватель их после того, как государь король стал королем, то он должен быть арестован, подвергнут испытанию водой и даст клятву, что не был разбойником или тайным убийцею или грабителем, или укрывателем их после того, как государь король стал королем.
…
12. И если кто будет арестован, у кого найдено было что-либо, что было взято во время разбоя или грабежа, и если он имеет худую славу, и о нем имеются дурные свидетельства, и у него нет поручителя, то он не должен подвергаться испытанию. А если он не имел дурной репутации, то за найденное у него он должен идти на испытание водой.

Святой Григорий Турский. Фреска. IX век
То есть можно с уверенностью говорить, что с 1201 по 1219 год почти все, кто подвергался Божьему суду, были оправданы. И это с учетом того, что правление Иоанна Безземельного было очень сложным, отмеченным гражданскими войнами и разгулом преступности.
У меня нет данных о том, сколько человек подвергали испытанию водой при самом Генрихе II и какая была статистика оправдательных и обвинительных приговоров, но частичный ответ кроется уже в 14-й статье той же ассизы.
Великая и Кларендонская ассизы (отрывок). Перевод Д. М. Петрушевского.
14. Желает также государь король, чтобы те, которые подвергнутся испытанию и выйдут чистыми из испытания, но в то же время пользуются самой дурной славой и по свидетельству многих и полноправных людей считаются способными на самые предосудительные поступки, оставили пределы земель короля так, чтобы в течение восьми дней переехали море, если только их не задержит неблагоприятный ветер, и с первым же благоприятным ветром они переедут море и после этого не вернутся в Англию иначе, как по особой милости государя короля; пусть они будут объявлены поставленными вне закона; и если вернутся, должны быть арестованы как поставленные вне закона.
То есть Генрих II, так же как и его двоюродный дед Вильгельм Руфус, прекрасно знал, что в большинстве случаев испытание Божьим судом приводит к оправданию обвиняемого. Поэтому подстраховался, оставив законную возможность высылать оправданных из страны, если они пользуются дурной репутацией.
Почему так?
Как я уже говорила, разница в менталитете. В Средние века ко всему подходили достаточно практично. Оголтелый экзальтированный фанатизм был уделом избранных – обычно монахов и монахинь, полностью посвятивших себя Богу, да и то это были редкие случаи, большинство из которых задокументировано (церковь в то время осторожно относилась к излишней экзальтации). Религиозный психоз с поиском ведьм и сладострастными пытками, который принято ассоциировать со Средневековьем, на деле был характерен для XVI–XVII веков и распространился в основном в протестантских странах. В Средние века же к Божьему суду относились как к жестокому, но надежному и практичному способу дознания.
Надежному – потому что в Бога верили все. И для судей, а тем более для проводящих процедуру священников, само желание обвиняемого подвергнуться Божьему суду уже было свидетельством того, что человек скорее всего невиновен. Виновные этого испытания боялись. Нам сейчас это трудно понять, но средневековый человек страшился лгать перед Богом.
Здесь может возникнуть вопрос: а что же тогда эти богобоязненные люди вообще совершали преступления, если знали, что ордалия выведет их на чистую воду? Но это все пустые рассуждения, не более. Точно так же можно спросить: как сейчас люди решаются на преступления, когда кругом камеры, генетическая экспертиза, детекторы лжи и прочие достижения цивилизации? Человек всегда надеется, что его не поймают, а если и поймают, ничего не докажут. Повторюсь: Божий суд никогда не был распространенной процедурой, он являлся крайней мерой, и большинство преступников совершенно справедливо рассчитывали, что до этого дело не дойдет.
Еще одна важная тонкость – мы сейчас совершенно неправильно понимаем суть самой процедуры Божьего суда и рассмотрения его результатов. Это тоже почти нигде почему-то подробно не объясняется. Поэтому создается впечатление, что в результате ордалии невиновный человек должен остаться невредим, достав камень из кипятка или подержав в руке раскаленный прут. А при испытании водой невиновный вообще должен утонуть.
Но при всей религиозности Средневековья чудес от Божьего суда никто не ждал. Конечно, рассказывали всякие красивые истории о том, как кто-то оставался невредим – например, про уже упоминавшихся королев и императриц. Но все это были великие мира сего, обычно причисленные к лику святых. К обычным же людям требования были попроще.
В частности, при испытании кипятком человек доставал из котла камень, потом его руку забинтовывали, а через три дня проверяли – заживает или нет. Если заживает, значит Бог его поддержал, если нет – виновен, можно приговаривать к смертной казни. Испытание раскаленным железом проходило примерно так же. А при испытании водой человека обвязывали веревкой. Если видели, что он идет ко дну, – вытаскивали, откачивали и признавали невиновным.
Кстати, интересный момент: женщин редко подвергали испытанию водой. Маргарет Керр в труде «Холодная вода и раскаленное железо: ордалии в Англии» пишет, что мнение средневековых ученых было таково: в женщине больше жира, поэтому у нее меньше шансов пройти испытание водой, чем у мужчины. Так что представительницам слабого пола из чувства справедливости и милосердия меняли испытание на раскаленное железо. Не знаю, правда, что по этому поводу думали сами женщины.

Смерть Брунгильды. Миниатюра. 1479–1480
К чему мы придем, соединив всеобщее мнение, что согласившийся на Божий суд уже скорее всего невиновен, и описанную систему проверки виновности? К тому, что занимавшиеся проведением ордалий чиновники и тем более священники не слишком усердствовали в стремлении доказать вину обвиняемых. Если обвиняемый не имел репутации злодея и обвинялся впервые, его требование Божьего суда приводило к тому, что церковь распространяла на него что-то вроде презумпции невиновности. Хостеттлер пишет, что по отчетам о судебных процессах иногда совершенно ясно, что железу и кипятку позволяли несколько остыть. А негодование Вильгельма Руфуса и поправки Генриха II в систему испытаний водой ясно говорят о том, что короли тоже знали: подозреваемых вытаскивают практически сразу, стоит им только скрыться под водой.
Так что ордалия была не настолько страшна, как принято считать, и для подсудимого она часто была наилучшим выходом. Вора и тем более убийцу, пойманного на месте преступления, могли вполне законно лишить жизни прямо на месте. Но если его ловили уже после, пусть даже с награбленным и с окровавленными руками, и он настаивал на своей невиновности, у него всегда оставался последний вариант – Божий суд. Для человека с хорошей репутацией это был реальный шанс спастись.
Феодальное право
Эпоха Каролингов[27] принесла с собой активное развитие такого явления, как феодализм – новой системы взаимоотношений, прав и обязанностей, довольно быстро распространившейся по всей Европе, включая и Британские острова.
Особенность новой системы была в том, что помимо государственного устройства в целом, сословных прав и обязанностей, устанавливалась добровольная связь со взаимными обязательствами между персонами разного ранга (причем связь всегда лично между ними двумя, без посредников). Целью этой связи было гарантировать старшему по рангу (сеньору) помощь в любых обстоятельствах, и прежде всего на войне, а младшему (вассалу) – защиту и предоставление стабильных средств к существованию, в основном за счет передачи ему в пользование каких-то земель.
Истоком таких вассальных отношений стало германское право – именно оттуда пошел обычай присяги и личной преданности молодых воинов/дворян их вождю/королю, переработанный в христианском духе. Сеньор для вассала в новой системе взаимоотношений становился первым после Бога, а нарушение верности было объявлено самым тяжким из преступлений.
Как это ни удивительно, но весь свод норм, которые регулировали формы и развитие феодальных отношений, а также права и обязанности сеньора и вассала, возник и утвердился благодаря обычаю. И соответственно феодальное право также создавалось в основном на основе обычаев. Подчеркиваю: обычаев, не законов! Государства со своими законами существовали сами по себе, а феодальное право – само по себе. Все эти вассальные обязанности и присяга, правила передачи и наследования феода – были частью правил, по которым жил правящий класс, но в законах они практически не прописывались.
Феодальные отношения очень быстро проникли во Францию, Англию, Германию, Италию, Испанию (даже частично в ее мусульманские регионы) и в той или иной степени по другим странам. Уже одно это говорит, что на том уровне развития общества вряд ли можно было придумать что-то лучше. Эта была очень своевременная система, и в условиях раздробленности стран на мелкие владения только она иногда и оставалась единственным связующим элементом между королем и многочисленными графами и баронами, потому что после распада империи Карла Великого власть королей над землями вельмож все ослабевала и в конце концов стала чисто номинальной.
С IX по XI век многие представители высшей знати приобрели власть, сравнимую с властью короля. Особенно эта тенденция заметна на территории Франкского королевства. В свою очередь, местные мелкие дворяне и рыцари, несмотря на то что они были связаны с высшей знатью феодальными узами верности, в своих владениях обладали всей полнотой власти в гражданской и уголовной юрисдикции. Эти права были как бы делегированы им королем через их сеньоров – потому что в условиях феодальной децентрализации требовалась крепкая власть на местах. А потом они так и закрепились на уровне обычая, превратившегося в закон.
Вассал моего вассала
Сеть феодальных отношений становилась все плотнее, поскольку, во-первых, она захватила и духовенство – крупные церковные землевладения также были вассальными по отношению к королю. А во-вторых, вассалы, в свою очередь, могли сами становиться сеньорами по отношению к персонам рангом пониже, а те, в свою очередь, тоже найти себе своих вассалов. И такая лесенка подчинения, бывало, насчитывала до пяти уровней. Причем, поскольку вассальные отношения заключались между двумя персонами лично, они не распространялись на других вассалов или сеньоров этих персон. То есть возникла та самая, знакомая многим еще по школьным учебникам истории ситуация «вассал моего вассала – не есть мой вассал». Что означало: если рыцарь принес присягу графу, а этот граф – королю, рыцарь королю ничем не обязан, он во всем зависит только от графа и служит ему же.
Только Конрад II, император Священной Римской империи, в 1037 году наконец-то законодательно запретил самоуправство крупных феодалов в отношении их вассалов – мелких рыцарей, а также закрепил правила наследования феода. Теперь каждый вассал крупного феодала мог быть уверен, что поместье после его смерти перейдет к его наследникам, а не будет передано кому-то постороннему. А в спорных ситуациях вассалы имели возможность пожаловаться через голову своего сеньора самому императору.
Положение осложнялось тем, что некоторые получали земли от двух разных сеньоров и обоим приносили вассальную клятву, то есть становились вассалами двух сеньоров (а то и более). А это приводило к ситуациям, когда возникал конфликт верности, например когда оба сеньора какого-нибудь вассала воевали между собой.
Подобных ситуаций было очень много во время англо-французских войн, потому что в силу особенностей складывания и развития английской монархии очень многие английские вельможи имели владения на континенте и являлись вассалами как английского, так и французского короля. В основном они выворачивались за счет того, что присягу надо было периодически обновлять – просто не ездили во Францию и не приносили присягу.
Был такой любопытный случай в правление короля Иоанна Безземельного (знакомого всем как принц Джон из баллад о Робин Гуде). Он отправил с дипломатической миссией во Францию крайне уважаемого в обеих странах Уильяма Маршалла, графа Пембрука, считавшегося лучшим рыцарем христианского мира.
Маршалл не хотел ехать, потому что у него была просрочена вассальная присяга французскому королю и благодаря этому он мог с чистой совестью сражаться против французов за Англию. Но король Иоанн настоял, Маршалл поехал во Францию, дипломатическую миссию выполнил, присягу вынужден был принести… После чего король Иоанн на него крайне обиделся за такое «предательство» и отправил его подальше от двора в опалу. Вернули его ко двору только через восемь лет, когда началось новое восстание баронов и королю не на кого больше было положиться.

Нетрудно догадаться, что подобная ситуация устраивала не всех, и в первую очередь она не нравилась королям, так что укрепление королевской власти и преодоление феодальной раздробленности шли одновременно с ликвидацией промежуточных лесенок подчинения и подчинением всех вассалов напрямую королю. Короли Франции, например, к XIII веку вновь стали настоящими правителями, а к концу XV века процесс централизации и сосредоточения всей власти в руках монарха практически завершился. В Англии вообще был свой собственный феодализм, там до настоящей раздробленности так и не дошло, частично по причине того, что английские аристократы никогда не были независимыми правителями и все свои земли и титулы получали непосредственно от короля, а в случае прерывания рода ему же и возвращали.
А вот в Германии и Италии раздробленность закрепилась, и они распались на множество независимых государств, только формально считавшихся частью единой империи. Связано это было в числе прочего с еще одной важной проблемой феодальных отношений – вопросом подчинения церковных феодалов. С одной стороны, они, как все духовные лица, занимали конкретное место в общей системе церковной иерархии, и на них распространялось каноническое право. С другой стороны, будучи держателями земли, они несли вассальные повинности по отношению к светскому сеньору. И чем богаче становились князья церкви, чем больше земли было в их руках, тем острее вставал этот вопрос.
В конце концов это привело к уже упоминавшейся борьбе за инвеституру, особенно остро проходившей между императором Священной Римской империи и папой. Суть конфликта заключалась в вопросе о том, кто из них имеет право назначать епископов, если те одновременно становятся и имперскими феодалами, и кому те должны в первую очередь подчиняться – императору или папе? Завершилась эта борьба компромиссом, более выгодным папе, чем императору, и приведшим в итоге к укреплению независимости крупных феодалов.
Феодальное общество
Правовая система при Каролингах и последующие пару столетий продолжала опираться на все то же местное традиционное право, хотя и адаптировалась под новые феодальные отношения. Рабство постепенно исчезло, хотя появились новые (или хорошо забытые старые, уходящие корнями в германское право) формы зависимости, когда человек сохранял личную свободу, но был ограничен в передвижениях и обязан получать согласие своего сеньора на брак или на смену рода деятельности.
Можно сколько угодно говорить о несправедливости подобной системы, но жизнь вообще не слишком справедлива, а в условиях феодализма это была достаточно естественная форма взаимоотношений. Крестьянин работал на своего сеньора, чтобы тому было на что жить и держать войско для королевских нужд. Сеньор зависел от короля иногда не меньше, чем крестьянин от сеньора, и даже жениться ему точно так же без разрешения своего монарха было довольно сложно.
Именно в период становления феодализма и была придумана хорошо известная система трех сословий: те, кто молятся, те, кто сражаются, и те, кто работают. Просто и четко, чтобы каждый мог понимать свое место и осознавать свой вклад в общественное благо. Одни молятся за всех, другие защищают, а третьи работают, чтобы прокормить первые два сословия, и таким образом расплачиваются за защиту от врагов и помощь перед лицом Бога.
Очень удобная система, особенно, конечно, для молящихся и сражающихся, и спустя много сотен лет производящая впечатление простой и удобной для понимания структуры средневекового общества. Но в реальности дело обстояло совсем по-другому. Средневековое общество было слишком сложным, чтобы его можно было вот так разделить всего лишь на три четкие группы.
Более-менее что-то понятно с сословием тех, кто молится. Оно было абсолютно неоднородно, но все-таки состояло из людей, давших определенные обеты, особенно после того, как из Рима окончательно продавили целибат для белого духовенства[28]. При этом оно не только делилось на белое и черное духовенство (эти группы жили по разным правилам, подчинялись разным людям), но и сильно различалось по уровню доходов, положению и образу жизни. Были богатые и бедные монастыри, мелкие священники и владетельные епископы, нищенствующие монахи и клирики на высоких светских должностях. Монастыри вели активную хозяйственную деятельность, епископы могли командовать армиями, и все они наравне со светскими феодалами владели землей и крепостными.
Еще менее однородным было и сословие сражающихся, которое формально включало в себя все дворянство – от мелких помещиков до короля. Система отношений и подчинения в разных странах варьировалась, но изначально она выросла из раннефеодального распределения земель. Король давал земли крупным феодалам (баронам, графам, герцогам), за что те обязаны были ему служить и выставлять на войны определенное количество людей. Эти феодалы, в свою очередь, выделяли поместья рыцарям и прочему мелкому дворянству, которое тоже расплачивалось личной службой и выставлением некоего количества воинов – в зависимости от размеров владений.
Формально должно было быть так: король требует армию, феодалы сообщают об этом помещикам, те собирают людей, сколько кому положено, из них феодалы формируют отряды и приводят к королю – вот и получается армия. Фактически именно в таком виде эта система работала только в Англии, где после нормандского завоевания верховным владельцем всей земли был король. В континентальных же странах многие крупные феодалы были независимы от королей, а распределение земель за службу или ренту работало лишь в общих чертах.
Трудно назвать однородным сословие, где на одном конце король, а на другом – тысячи бедных дворянских сыновей, у которых ничего нет, кроме, образно говоря, коня и меча. Но на этом сложности не заканчиваются. Как в эту систему вписать, например, уже упоминавшихся епископов или монастыри, владеющие землей и, соответственно, обязанные нести те же вассальные повинности, что и светские лица?
Да и самое обширное сословие тех, кто работает, со стороны выглядящее относительно единообразным, на поверку оказывается, наоборот, самым неоднородным. Оно изначально учитывало только тех, кто работал на земле, то есть крестьян, которые в свою очередь делились на свободных и крепостных. Причем и те и другие могли быть как бедными, так и богатыми. А еще могли арендовать землю или владеть ею. Я уж не говорю о мелких различиях в статусе и положении, которые происходили из обстоятельств рождения (в браке или вне его), ремесла, родственников на важных должностях и т. д., включая даже разделение на местных и пришлых.
Чем дальше, тем крестьянство становилось все менее однородным, с развитием буржуазной системы отношений кто-то нищал и шел в батраки, а кто-то брал в аренду целые поместья, женился на дочерях рыцарей и практически сливался с сословием сражающихся, в то же время продолжая платить налоги как сословие работающих.
Существовали и люди, которых никак нельзя было отнести ни к одному из сословий, – это и слуги, которые могли быть полностью зависимы от господина, но в то же время иметь огромную власть и доходы, и постепенно набирающая силу городская верхушка, и всевозможные представители бродячих профессий, и т. д. Так что феодальное общество было намного сложнее, чем выглядело на первый взгляд, а с течением веков еще более усложнялось, что в числе прочего было связано и с развитием правовой системы.