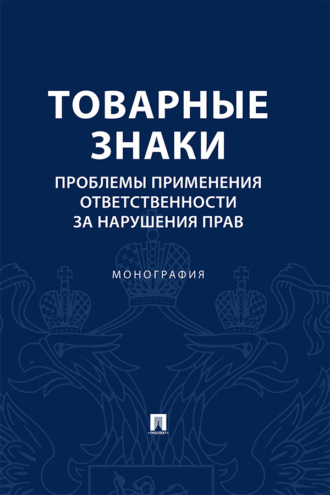
А. С. Ворожевич
Товарные знаки. Проблемы применения ответственности за нарушения прав
В судебной практике длительное время отсутствовал единый подход. Изначально суды склонялись к тому, что нарушение исключительного права может иметь место с даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (далее – первый подход). Так, например, в постановлении от 09.09.2016 по делу № А32-30594/2012 Суд по интеллектуальным правам РФ признал ошибочным довод ответчика об отсутствии нарушения исключительного права на спорный товарный знак в период времени, предшествующий дате его регистрации. При этом Суд руководствовался п. 1 ст. 1491 ГК РФ, согласно которому исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. Следовательно, как отмечал суд, в случае предоставления соответствующему обозначению правовой охраны исключительное право на товарный знак действует с момента подачи соответствующей заявки (дата приоритета) и, соответственно, подлежит защите. Поэтому использование товарного знака в указанный период также является нарушением исключительного права на него.
Между тем в последних своих решениях Суд последовательно придерживается иного подхода. Так, в постановлении от 20.06.2017 по делу № А07-18668/2016 суд признал обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о том, что при определении размера компенсации подлежала учету стоимость спорных товаров, реализованных ответчиками в период начиная с момента регистрации товарного знака истца (с 02.02.2015), а не с даты его приоритета (далее – второй подход). В силу ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю). Таким образом, совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством.
К выводу о том, что в период между подачей заявки и регистрацией товарного знака исключительное право не защищается, Суд по интеллектуальным правам пришел также и в постановлении от 03.04.2017 по делу № А54-4230/2015. В данном случае суд руководствовался следующей логикой: «При отсутствии государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака, заявленного на такую регистрацию и проходящего соответствующую процедуру проверки в Роспатенте, не может быть признано средством индивидуализации по смыслу положений ГК РФ, а следовательно, оно не подлежит судебной защите до даты его регистрации. В свою очередь хозяйствующие субъекты, при соблюдении всей должной осмотрительности и осторожности, не могут и не должны знать о наличии поданной в Роспатент заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, сходного с используемым ими обозначением, что исключает наличие в их действиях нарушения каких-либо прав подателя такой заявки. Таким образом, хотя момент возникновения исключительного права на товарный знак устанавливается во время регистрации товарного знака ретроспективно, т. е. с момента подачи заявки на его регистрацию, обязанность неограниченного круга лиц такое право не нарушать не может возникнуть ранее внесения товарного знака в Государственный реестр. То есть товарный знак подлежит правовой охране только с момента его регистрации и внесения соответствующих сведений в Государственный реестр».
У каждого из обозначенных подходов есть свои плюсы и минусы.
Следует начать с того, что основной функцией товарных знаков является указание на источник происхождения товара и снижение, таким образом, издержек потребительского выбора. Интересы потребителей при этом играют определяющую роль при регулировании использования и защиты товарных знаков. Большинство положений § 2 гл. 76 ГК РФ в той или иной мере служат тому, чтобы потребители не были введены в заблуждение относительно характеристик и изготовителя товара. Этого возможно добиться лишь при последовательном атрибутировании обозначения конкретному субъекту. Чем раньше это будет сделано – тем лучше. На практике предприниматели вряд ли будут ждать, пока Роспатент выдаст им свидетельство на товарный знак, чтобы начать как-то индивидуализировать свои товары (услуги) на рынке. Равно как и инвестировать средства в маркетинг, продвижение своего бренда. Появление иного субъекта со схожим обозначением может ввести потребителей в заблуждение. Менее вероятно, но также возможно, что на данном этапе потребители начнут в большинстве своем связывать обозначение с конкурентом заявителя. Наконец, всегда существует риск, что «отсрочкой» правовой охраны товарного знака от момента подачи заявки воспользуются недобросовестные субъекты, которые захотят паразитировать на чужом бренде хотя бы в период рассмотрения заявки Роспатентом. Возможность взыскания компенсации (убытков) за период с момента подачи заявки до регистрации (при условии, что товарный знак будет зарегистрирован) снизит подобные риски и позволит правообладателю компенсировать возникшие на данном этапе имущественные потери. Особенно это актуально для той ситуации, когда после регистрации обозначения предполагаемый нарушитель перестал использовать обозначение.
В пользу данного подхода говорит также тот факт, что в таком случае не сокращается десятилетний срок использования знака до возможного его продления. Данный аргумент нельзя признать существенным. Исключительные права на товарные знаки (в отличие от патентных исключительных прав) фактически носят неограниченный по сроку характер. Каждое десятилетие правообладателю важно лишь подтверждать свою заинтересованность в товарном знаке, чтобы сохранять свою «монополию» на его использование. В таком случае, даже если исходить из того, что первоначальный десятилетний период сокращается, нельзя сказать, что интересы правообладателя в эффективной коммерциализации бренда как-то пострадают.
Аргумент судов о том, что хозяйствующие субъекты, при соблюдении всей должной осмотрительности и осторожности, не могут и не должны знать о наличии поданной в Роспатент заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, нуждается в уточнении. На сайте Роспатента помимо реестра зарегистрированных товарных знаков размещается реестр поданных заявок на регистрацию. На практике многие субъекты, прежде чем начать использовать в своей деятельности конкретное обозначение, проверяют его по реестру заявок. Другое дело, что в некоторых случаях у участников оборота не может быть уверенности (например, есть основание предполагать, что оно является ложным или описательным) относительно того, получит ли обозначение правовую охрану. Роспатент и суд зачастую различным образом отвечают на вопрос – может ли данное конкретное обозначение быть зарегистрированным в качестве товарного знака. Таким образом, можно признать, что выбор первого подхода может повлечь за собой нарушение интересов добросовестных участников рынка. Желая избежать ответственности за противоправное поведение, они будут вынуждены проводить поиск и анализ по заявкам, что повлечет дополнительные издержки. Здесь, однако, нужно отметить, что подобные проблемы будут «сниматься» при регистрации компанией на себя товарного знака (которой в любом случае предшествует поиск по заявкам). Обозначенный риск носит в большей степени умозрительный характер. На практике вряд ли найдется много предпринимателей, которые будут регулярно проверять все зарегистрированные товарные знаки и поданные заявки, но не пытаться зарегистрировать собственный товарный знак.
Таким образом, при каждом из рассмотренных вариантов могут пострадать правомерные частные или общественные (потребительские) интересы. Между тем второй подход в большей степени соответствует «букве закона».
Представляются возможными два решения проблемы в зависимости от выбора подхода.
При выборе первого подхода необходимо исходить из того, что из мер защиты к субъекту, использовавшему чужое обозначение на этапе после подачи заявки, но до регистрации, можно применить лишь запрет на использование товарного знака. Меры ответственности (компенсация, взыскание убытков) применяться не должны. Исключения должны представлять случаи, когда субъект действует явно недобросовестным образом. Например, используется широко известное обозначение, которое по каким-то причинам до сих пор не было зарегистрировано в Российской Федерации либо продолжает использоваться товарный знак после того, как подавшее заявку лицо направило письменное уведомление – просьбу прекратить подобное использование. Интересно также предложение А. П. Сергеева предусмотреть в законе возможность использования предпринимателями специального значка, указывающего на то, что в отношении используемого обозначения осуществляется процедура регистрации его в качестве товарного знака.
Субъекты предпринимательской деятельности несут ответственность на безвиновных началах (критерий вины рассмотрен ниже). Но в данном случае, по сути, предлагается при применении ответственности ориентироваться на наличие/отсутствие в действиях ответчика вины. Представляется, что здесь необходимо исходить из следующей логики: суд может возложить меры ответственности в том числе на нарушителя – предпринимателя, действовавшего в отсутствии вины, однако невиновность, добросовестность должны учитываться при расчете размера компенсации (убытков). В ситуации, когда предполагаемый нарушитель вероятнее всего не знал о том, что данное обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, суд может отказать во взыскании компенсации. Наличие каких-либо убытков правообладателю также будет здесь трудно доказать – на основе принципов разумности и справедливости суд может отказать в их выплате.
При выборе второго подхода судебной практике и даже законодателю необходимо выработать эффективные дополнительные механизмы защиты интересов правообладателя в ситуации, когда иной нарушитель пытается паразитировать на его незарегистрированном обозначении и ввести потребителей в заблуждение. В таком случае можно говорить о недобросовестной конкуренции. Можно также предложить конструкцию исков, сходных с зарубежным институтом passing off, которые нацелены в большей степени на защиту деловой репутации бренда (в том числе незарегистрированного), а не исключительного права.
Следующим сложным для практики вопросом является квалификация ситуации, когда предполагаемый нарушитель использует для индивидуализации своих товаров обозначение, сходное или даже тождественное с чужим товарным знаком, но при этом дополняет его какими-то иными элементами: словесными или изобразительными. Возможны два варианта. Первый – ответчик мог специально дополнить чужой товарный знак для создания видимости отсутствия нарушения. В действительности он рассчитывает на невнимательность потребителей, которые, не обращая внимания на нюансы, будут атрибутировать контрафактные товары оригинальному производителю. Например, кондитерская фабрика «Красная звезда» не только начала использовать, но и зарегистрировала товарный знак «Дозор буревестника» в отношении конфет. При том, что ранее на компанию «Бабаевский» был зарегистрирован товарный знак «Буревестник». Суд закономерно признал данные обозначения сходными до степени смешения[17].
Второй – предполагаемый нарушитель включил обозначение (речь в данном случае идет о словесной части) истца в самостоятельный бренд, который будет атрибутировать к нему как источнику происхождения товара, а не правообладателю бренда.
Долгое время в судебной практике господствовал подход, в соответствии с которым совпадение словесных элементов в обозначении истца и ответчика обычно, при условии однородности товаров, рассматривалось в качестве нарушения исключительного права. В последние время подход стал учитывать больше нюансов.
Весьма показательно дело по иску некоммерческого частного образовательного учреждения «УЭЦ “Строитель”» к частному учреждению «УЦ “Иркутский строитель”» о нарушении исключительного права истца на товарный знак «Строитель», зарегистрированный в отношении услуг 41 класса МКТУ[18].
Основанием для обращения в суд послужило то обстоятельство, что, по мнению истца, ответчик использует принадлежащий ему товарный знак в составе собственного наименования – учреждение «УЦ “Иркутский строитель”», в доменном имени сайта сети Интернет – ucstroitel.com, в составе контента названного сайта, а также на вывесках, в брошюрах и рекламе. Суды трех инстанций отказали в удовлетворении иска. По их мнению, из имеющихся в деле доказательств невозможно установить, что использование ответчиком слова «строитель» вводит потребителей в заблуждение относительно того, кем – истцом или ответчиком – оказываются услуги дополнительного профессионального образования. Невозможно установить и опасность смешения названных обозначений.
На первый взгляд, данная ситуация схожа со спором о товарном знаке «Буревестник»: в обозначении ответчика использовалось тождественное товарному знаку истца слово, дополненное прилагательным. Между тем в действительности данные ситуации принципиальным образом различаются между собой, и хорошо, что суды видят разницу.
Правообладатель имеет господство над товарным знаком до тех пор, пока данное обозначение служит идентификатором товаров (услуг) конкретного потребителя и, соответственно, при использовании такого обозначения иным лицом существует риск смешения. Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов. Судебной практикой (главным образом, в делах об оспаривании регистрации товарного знака) уже были определены некоторые такие критерии:
• используется ли старший товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;
• длительности и объема использования старшего товарного знака правообладателем[19];
• степени известности, узнаваемости старшего товарного знака, в том числе если товарный знак не зарегистрирован в качестве общеизвестного (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06);
• степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены)[20];
• наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.
Важное значение также должно придаваться тому, насколько оригинален товарный знак, является ли он в полном смысле слова фантазийным (изначально данное обозначение было придумано в качестве товарного знака, не имеет самостоятельного лексического значения) либо зарегистрированное обозначение обладает собственным лексическим значением, используется в обычной речи.
Все обозначенные обстоятельства в той или иной мере характеризуют степень различительной способности товарного знака, насколько прочно данное обозначение связывается потребителями с источником происхождения товара – правообладателями Из этого следует важный теоретический вывод: объектные границы исключительного права[21] на товарные знаки неоднородны и функционально детерминированы. Они шире для тех товарных знаков, которые обладают большей различительной способностью, при том, что они могут расширяться по мере использования одного и того же товарного знака, приобретения им узнаваемости. Закон «фиксирует» только значительные изменения, происходящие с товарным знаком, – переход на третью стадию «развития товарного знака»[22] – формирование бренда – символа «гудвилл» правообладателя (в отрыве от конкретных товаров). Проще говоря, получения товарным знаком статуса общеизвестного. Между тем судебная практика (пусть и не всегда последовательно) улавливает и промежуточные стадии, которые проходит товарный знак в своем развитии.
Возвращаясь к рассмотренным выше примерам, отметим, что оба товарных знака не являются выдуманными, используемые в качестве них обозначения обладают самостоятельным значением. Между тем обозначение «Буревестник» никак не связано с индивидуализируемым товаром (конфетами). При этом оно приобрело определенную известность. В то же время обозначение «Строитель» и произвольные от него обозначения вполне могут использоваться в своем прямом значении для описания услуг 41 класса МКТУ, в том числе для раскрытия оказываемых организацией образовательных услуг (в данном случае применима в том числе доктрина добросовестного описательного использования, речь о которой пойдет ниже). Данный товарный знак не приобрел какой-либо известности и находятся на начальной стадии бренд-развития. В целом его оригинальность ниже, чем у обозначения «Буревестник».



