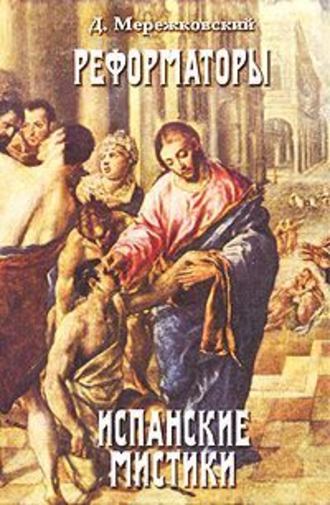
Дмитрий Мережковский
Паскаль
16
Два ничтожных события, которые могли иметь великие последствия, произошли в эти дни. Первое событие – исповедь герцога де Лианкур (Liancourt) приходскому священнику, отцу Пикотэ. Кончив исповедь, герцог ждал отпущения грехов, но священник дать его отказался, потому что Лианкур будто бы скрыл от него два своих главных греха – то, что приютил в своем доме больного, старого янсенистского священника, и то, что отдал внучку в Пор-Руаяльскую школу. Герцог, не захотев каяться в этих грехах, так и ушел без отпущения, о чем не преминул сообщить господам Пор-Руаяля, и что сделалось тотчас же известным, как в Версале, так и в Париже.[158]
Второе событие – возобновившееся дело о пяти осужденных тезисах Янсения (главный из них был о том, что «Христос умер не за всех людей, а только за избранных»). Доктор Сорбонны, столп Пор-Руаяля и духовный наследник Янсения, Антуан д'Арно Младший, выступил в защиту этих тезисов, но так неудачно, что и сам был осужден за ересь.[159] После осуждения обратился он с письмами уже не к сорбоннским теологам, а к простым верующим людям. Но написанные тяжелым и для простых людей непонятным языком, письма эти не имели никакого действия. Когда однажды зашла об этом речь у господ Пор-Руаяля, то Арно неожиданно сказал присутствовавшему на этом собрании Паскалю: «Вы, молодой человек, должны были бы что-нибудь сделать!»
И может быть, так же для самого себя неожиданно, Паскаль согласился сделать опыт и когда на следующий день прочел написанное, то все восхитились, и Арно воскликнул: «Это превосходно, это понравится всем!»[160]
Этою-то мерой превосходства – жалкою мерою всех – Арно и соблазнил Паскаля.
23 января 1656 года появилось на пяти страницах in quarto. «Первое письмо Луи де Монтальта к одному из его друзей, провинциалу, о споре, происходящем ныне в Сорбонне», а за этим первым письмом последовало, с небольшими промежутками, семнадцать других. Новый, не книжный, а разговорный и для всех понятный язык этих писем пленял простотою, изяществом и любезностью светского, благородного человека (honnête), в таких свойствах его, которым научился Паскаль в школе де Марэ и Митона.[161] Луи де Монтальт описывает другу своему, провинциалу, свои похождения среди ученых иезуитов, доминиканцев, томистов (учеников св. Фомы Аквинского) и других участников спора, у которых он старался узнать о существе этого богословского спора. Главное очарование «Писем» заключалось в том, что они не только поучали, но и веселили. Слышались в них живые голоса, и проходили живые человеческие лица, как разноцветные тени от волшебного фонаря на белой стене.
С первых же «Писем» успех превзошел все ожидания. У канцлера Сегье едва не сделался при чтении их удар от волнения, и ему должны были в течение одних суток семь раз пускать кровь.[162] Владелец книжной лавки, где продавались «Письма», был схвачен, и типографские станки его запечатаны.[163]
Этот небывалый успех был тем удивительней, что спор шел об отвлеченнейшей богословской метафизике. Между янсенистами, утверждавшими «Благодать достаточную» (gratia sufficiens), и противниками их, утверждавшими «Благодать действующую» или «совершающую» (gratia efficax), различие было так тонко, что для самих спорщиков было почти неуловимо.[164]
«Значит ли это, отец мой, что все люди имеют Благодать достаточную, но не все – совершающую?» – спрашивает Монтальт одного доминиканца после долгих и терпеливых его объяснений.
«Да, вы верно поняли», – отвечает тот.
«Но если так, то о чем же вы думали, называя „достаточной“ ту Благодать, которая может оказаться недостаточной, потому что „несовершенной“?» – спросил я тихо, чтобы его успокоить.
«Вам хорошо говорить, – ответил он. – Вы – частное лицо и человек свободный, а я – монах… Все мы зависим от наших начальников, а те – от своих. Наши голоса ими обещаны. Что же мне делать? Это значит: вся нелепость этого спора зависит от главного начальника, Папы».
«Плохо же, отец мой, Братство ваше хранит вверенный ему залог той Благодати, которую даровал людям Христос!» – воскликнул присутствовавший при нашей беседе мой друг, янсенист. «Видно, наступает время для того, чтобы Господь вооружил на защиту дела своего других, более бесстрашных бойцов… Подумайте же об этом, отец мой, и остерегайтесь, как бы Господь не сдвинул с места вашего светильника и не покинул вас во мраке, чтобы наказать за ту робость, с какой вы боретесь за столь великое для Церкви дело!»[165]
Так Братству св. Доминика, столпу Церкви, устами янсениста, простой мирянин Паскаль дает незабываемый урок. Жалким и смешным делает он в глазах всех «честных людей» этого доминиканца с его «Благодатью, достаточной и недостаточной» вместе. Но так ли прав был Паскаль, как это казалось ему и всем, кто им восхищался? Людям так свойственно желать победы для самих себя, что когда это желание прикрывается другим, может быть мнимым, чтобы победила истина, то слишком часто эти два желания смешиваются. Кажется, такое же смешение происходит и в Паскале.
Третье «Письмо» он подписывает первыми буквами полного имени своего: В. P. A. F. Е. Р. – Blaise Pascal, Auvergnat, fils d'Etienne Pascal. Стоило бы только врагам его, иезуитам, немного пристальней вглядеться в эти буквы, чтобы узнать, кто сочинитель «Писем». Трудно поверить, что они этого не сделали за те четырнадцать месяцев, в течение которых появлялись «Письма». «Вы не думали, что люди будут любопытствовать, кто мы такие, – пишет он провинциалу, – а между тем кое-кому очень хотелось бы это узнать, но это им не удается. Одни думают, что я – доктор Сорбонны, другие – что одно из четырех или пяти лиц, так же не духовных, как я. Все эти ложные подозрения убеждают меня, что я недурно достиг моей цели, – чтобы только вы, да еще добрый отец (иезуит), который страдает от моих посещений, и от чьих речей я тоже страдаю, – знали, кто я такой».[166]
Прячется Паскаль под ложным именем, как под шапкой-невидимкой или опущенным забралом таинственного рыцаря Луи де Монтальта, и враги его не знают, откуда сыплются на них удары, а он только смеется и играет, как дитя в той «небесной тишине», о которой писал в «Опыте о духе геометрии».
«Я ни на что не надеюсь от мира и ничего не боюсь… Вот почему, сколько бы вы меня ни ловили, – не поймаете… Может быть, вы никогда не имели дело с человеком более для вас неуловимым, потому что более свободным, чем я».[167]
Что такое свобода человека пред лицом Божиим – добро или зло, – вот великий предмет этого, как будто ничтожного, спора о Благодати, действующей помимо человеческой воли, или вместе с нею. Янсенисты говорят «помимо», а иезуиты и доминиканцы – «вместе», но все говорят или когда-то говорили, и снова, может быть, заговорят из глубины сердца, с мукой и с искренним желанием найти истину. Грех Паскаля заключается в том, что он над этой мукой смеется в угоду тем, кто никогда этим не мучился и не искал истины. Если враги называют его «маленьким шутом», то это, конечно, лишь грубая и бессильная брань; но когда они говорят: «Письма эти не могли быть написаны кающимся, плачущим грешником у подножия Креста», то, может быть, ему следовало бы над этим задуматься. «Даруй мне, Господи, силу пострадать за истину Твою даже до смерти!» – молился Арно. Мог ли бы Паскаль, тотчас после того легкого смеха, так же молиться?[168] «Там, где речь идет о святом, не должно смеяться», – говорят ему янсенисты так же, как иезуиты.[169] «Есть большая разница между смехом верующих и смехом кощунствующих», – оправдывается Паскаль, но, может быть, смутно чувствует, что оправдаться ему не так-то легко. «Не сам ли Бог говорит: „Посмеюсь вашей гибели?“ Бог до того ненавидит грешников, что и в смертный час их прибавляет насмешку к ярости своей, осуждающей их на вечные муки».[170] Бог, яростно смеющийся над вечными муками грешников, – кажется, дальше и Кальвин не уходил от Евангелия. Вот какою судорогой неземного смеха или неземного ужаса вдруг искажается слишком по-земному смеющееся лицо Монтальта-Паскаля.
17
Все это время он жил под именем де Монса (Mons), в скромной и тихой гостинице под вывеской «Царя Давида» на улице Пуаре, против Иезуитской Школы – в самом логове врагов своих, потому что меньше всего иезуиты могли думать, что он так близко от них.
Как-то раз один из них, родственник Флорена Перье, жившего тогда в той же гостинице, зайдя к нему и случайно заговорив о «Письмах», сказал: «Имея честь принадлежать к вашему семейству, я почитаю долгом предупредить вас, что Иисусово Общество уверено, что сочинитель „Писем“ – не кто иной, как шурин ваш, господин Паскаль. Скажите ему об этом и посоветуйте прекратить эту игру, чтобы не случилось беды». «Очень благодарю вас, отец мой, за добрый совет, – ответил Перье, – но думаю, что говорить ему об этом бесполезно, потому что он ответит, что „Общество ваше ему не поверит, сколько бы ни уверял он, что сочинитель „Писем“ – не он“. В той самой комнате, где происходила эта беседа, сушились только что отпечатанные и разложенные на постели, в двух шагах от гостя, листы восемнадцатого „Письма“. К счастью, занавеска над постелью была немного опущена, и гость не поглядел в ту сторону. Только что он вышел из комнаты, Перье побежал к Паскалю, жившему как раз над этой комнатой, рассказал ему о том, что случилось, и долго смеялись они, как школьники, удачной шалости.[171] Знал, конечно, Паскаль, что если бы занавеска над постелью была чуть-чуть поменьше опущена, то ему не сносить бы головы своей; но упоение борьбы заглушало в нем страх.
Только с шестого «Письма» начинается смертный поединок Монтальта с Иисусовым Обществом. «Я до сих пор только играл и скорее показывал, какие раны мог бы наносить, чем действительно их наносил», – остерегает он врагов.[172] Главная твердыня их – то «учение о вероятностях», пробабилизм, которое не могло не напоминать Паскалю его же собственного великого открытия – математическую теорию вероятностей – Геометрию Случая (aleae geometria).[173] Иезуиты изобрели это учение, потому что оно соответствовало их главной цели – открыть для наибольшего числа верующих наиболее широкий и легкий путь спасения, сделать его мягким, «бархатным». «Люди в наши дни так порочны, что мы не можем привлечь их к себе и должны сами к ним идти… потому что главная цель нашего Общества – никого не отталкивать, чтобы не доводить людей до отчаяния». «Мы простираем объятья ко всем». «Миром хотят они овладеть, управляя человеческой совестью».[174] В случаях для нее сомнительных духовники-иезуиты довольствуются решением кого-либо из великих или, как они выражаются, «важных докторов богословия» (doctor gravis), полагая, что такое решение обладает достаточной степенью вероятности, чтобы верующие могли следовать за ним с безопасностью, если бы даже совесть осуждала их за то.[175] Вот почему, как неизбежное логическое следствие из «учения о вероятностях», вытекает учение о том, как применять общие нравственные правила к частным случаям совести, – казуистика (от слова casus, «случай»). «Людям угрожают казуисты, разрешая дела, и служат Богу, очищая намерения».[176]
«Двадцать четыре старца Апокалипсиса суть двадцать четыре великих казуиста Иисусова Общества», – учит испанский иезуит Эскобар. «Должен ли поститься человек, уставший от игры в мяч или от преследования женщин легкого поведения?» – спрашивает Эскобар. «Должен», – отвечают одни из двадцати четырех великих старцев казуистов, старцев Апокалипсиса. «Не должен», – отвечают другие. И люди могут следовать за теми, кто им больше нравится.[177]
«Может ли скидывать рясу монах, не боясь отлучения, и если может, то в каких случаях? – спрашивают казуисты и отвечают: – В тех случаях, если он хочет сделать что-либо постыдное, как, например, смошенничать или пойти в дом терпимости» (ut furetur occulte, vel eat incognitas ad lupanar).[178]
«Наши богословы нашли способ разрешать убийство в поединке, – хвалится добрый отец-иезуит в беседе с Монтальтом. – Для этого стоит только перенести внимание от запрещенного желания мести на дозволенное желание защитить свою честь». Сын может желать смерти ненавистному отцу, если опять-таки перенесет внимание от запрещенного чувства ненависти на дозволенное желание получить наследство.[179]
«Нельзя убивать за что-нибудь имеющее малую цену, как, например, за яблоко; но если потерять его постыдно для чести, то убить можно, потому что в таком случае убийство совершается не ради яблока, а ради чести».[180]
«О, мой отец, слышать нельзя без ужаса того, что вы говорите», – восклицает Монтальт. «Это не я говорю», – оправдывается иезуит. «Знаю, что не вы, но все эти гнусности внушают вам не отвращение и ненависть, а уважение… Вы не только разрешаете людям проливать человеческую кровь, но и учите их, что Кровь Господня пролита на Голгофе, чтобы людям позволить не любить Бога… Откройте же глаза, отец мой, – тайна беззакония уже совершается». «О, если бы это ужасное учение (казуистов) никогда не выходило из ада, и дьявол, первый учитель его, никогда не находил столь преданных ему людей, чтобы проповедывать его христианам!»[181]







