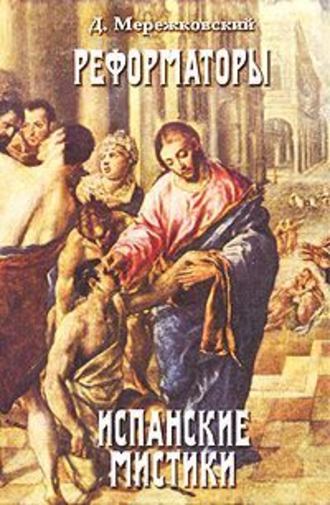
Дмитрий Мережковский
Паскаль
9
Кажется, тщетны сомнения историков, что «Речь о любовных страстях» («Discours sur les passions de l'amour») принадлежит Паскалю. Голос его слышится в ней слишком внятно. Стоит лишь сравнить эту «Речь» с теми «Мыслями», где говорится о любви, чтобы услышать, что здесь и там голос один. Сомнение, впрочем, понятно: трудно поверить, чтобы иные слова в «Речи» могли быть сказаны христианином, хотя бы только в возможности. Все в этой «геометрии любви» как будто отвлеченно и холодно, а на самом деле страстно и огненно.
«Когда говоришь о любви, то уже начинаешь любить… У любви нет возраста: она всегда рождается».[119] «Страсть охватывает сердце и терзает его. Но как бы низко ни падал любящий, всякий луч надежды снова подымает его на высоту. Женщинам иногда нравится эта игра. Но, и делая только вид, что жалеют, часто они жалеют искренне, и какое в этом для любящих блаженство!»[120]
В эти дни Паскаль доводит счетную машину свою до совершенства и посылает ее молодой шведской королеве Христине с таким письмом: «Я питаю высшее уважение только к тем, кто находится на высшей ступени знания или власти. Эти так же, как те, могут считаться владыками, потому что власть государей есть только образ той, которую высшие духи имеют над низшими, и даже эта власть знания больше той (власти государственной), потому что дух больше тела».[121]
Кажется, точнейшую меру тогдашнего удаления Паскаля от христианства дает презрительное умолчание в этом письме о том «порядке святости», о котором он некогда скажет: «Этот порядок бесконечно выше вещественного и духовного порядка».[122]
«Вы один из тех гениев, которых королева ищет, – отвечает Паскалю на его письмо королеве врач ее Бурдело.[123] «Вы – человек самого точного и проницательного ума, которого я когда-либо знал. С вашим упорством вы превзойдете всех великих людей, древних и новых веков, и завещаете потомству чудесную легкость в деле познания». Вот какие похвалы нужны Паскалю, чтобы утолить в нем «похоть превосходства», скрытую под «похотью знания».
Судя по «Мыслям» Паскаля, он был таким очаровательным собеседником, что трудно себе представить, чтобы в обществе тогдашних женщин, не только ученых «жеманниц», не нашлось ни одной, которая пленилась бы его очарованием. Если он еще не любил, то, может быть, по слову св. Августина, «уже любил любовь». «В каждом сердце есть место, ожидающее любви», – признается он в «Речи». «Каждый человек ищет в мире воплощение той красоты, которую он предчувствует».[124] Это значит, по учению Платона, что Бог сотворил души «предустановленными четами» и что любовь земная есть только тень любви небесной. Если так, то имя «Клермонтской Сафо», кажется, менее всего «ученой жеманницы», хотя и влюбленной в геометрию так же, как и в Паскаля-геометра, в жизни его промелькнуло недаром.
«Человек создан для наслаждения»,[125] – говорит Паскаль в «Речи о любовных страстях». «В смерти он исполнил то, для чего был создан», – говорил он в «Утешении» о смерти отца. Стоит лишь сравнить эти слова, с тем чтобы увидеть весь им пройденный путь. «О, как счастлива жизнь, которая начинается любовью к женщине и честолюбием кончается!» Это значит: «похотью плоти» начинается счастливая жизнь, а кончается «гордостью житейскою». Что это – отречение от Христа? «Я от Него ушел и отрекся; я распял Его», – скажет он сам, когда поймет, что сделал.[126] Нет, Паскаль от Христа не отрекся, а только «заснул от печали», как ученики в Гефсиманскую ночь.
«Видя, как он живет, скорбела она и стенала», – вспоминает Жильберта Перье о Паскале и Жаккелине.[127] «Больше всего в мире он любил Жаккелину», – вспоминает дальше Жильберта Перье.[128] Может быть, только ее одну и любил по-настоящему. Оставшись один по смерти отца, он больше чем надеется – он уверен, – что Жаккелина пощадит его и отложит постриг на несколько лет. Но не пощадила, дня не хотела подождать, и вся ее пощада свелась к тому, что, зная, как ему будет больно, и сама не смея нанести ему удар, просила об этом Жильберту.
31 декабря 1652 года совершен был раздел имущества по завещанию отца в присутствии нотариуса, а на 4 января назначен был день поступления Жаккелины в монастырь. «3 января, в самый канун ее ухода из дому, она попросила меня сказать что-нибудь брату, чтобы уход ее не слишком его поразил, и я это сделала так осторожно, как только могла… Но он все-таки был поражен и тотчас ушел, не простившись с сестрой, которая в это время была в соседней маленькой комнате, где обыкновенно молилась и откуда вышла ко мне только по уходе брата, потому что боялась, что вид ее будет для него тягостен. Я передала ей те нежные слова, которые он просил ей сказать, и после этого мы все пошли спать. Я была от всей души согласна с тем, что она решила сделать, но важность этого решения так волновала меня, что я и глаз не могла сомкнуть во всю ночь… Утром, около семи часов, видя, что сестра еще не встала, я подумала, что она, должно быть, тоже не спит… когда я вошла к ней в комнату, то увидела, что она спит глубоко. Шум моих шагов ее разбудил, и она меня спросила, который час. Я ей сказала и тоже спросила, хорошо ли она спала и как себя чувствует. „Очень хорошо“, – ответила она, встала, оделась и вышла из спальни, делая все это с таким непостижимым спокойствием, что я не могла надивиться. Мы с нею даже не простились, чтобы не расплакаться, и, когда она проходила мимо меня, чтобы выйти из дому, я от нее отвернулась».[129]
10
Не успела Жаккелина переступить за порог святой обители, как между этими умными и добрыми, почти святыми, людьми началась такая жалкая и постыдная, мещанская свара из-за грошей, что этому трудно поверить. С тем же ожесточением, как некогда с о. Сен-Анжем из-за ереси, а потом с руанским часовщиком из-за счетной машины, борется теперь Паскаль с любимой сестрой из-за наследства. Бедная послушница едва не умерла от стыда и горя, узнав, что брат хочет с нею судиться из-за этих грошей, и тотчас написала ему и сестре, что отказывается от всего в их пользу.[130] «Денежные расчеты их, может быть, и правильны, – говорила она, – но до сих пор не были у нас в обычае».[131]
Если даже главный зачинщик всей этой свары – Паскаль, то, может быть, он все же не так виноват, как это кажется. В эти именно дни дела его были очень плохи, много проигрывал он в карты и жил в кругу золотой молодежи выше своих средств. Но и супруги Перье возмущались еще сильнее, чем он, потому что вынуждены были сделать вклад в монастырскую казну за четыре года до того, как это было условлено, а Жаккелина, может быть, возмущалась тем, что они требуют, чтобы монастырь принял ее из милости, как нищую. Мать-игуменья, Анжелика, доказывала ей с легкостью, что «скорбь ее суетна, потому что она страдает только от гордости, стыдясь, что будет принята в обитель без вклада». Жаккелина хотя и соглашалась с этим, но гордости, этого первородного греха Паскалей, не могла в себе победить.[132]
Было, может быть, у брата ее и тайное ожесточение на этих «господ Пор-Руаяля», бесчеловечных святых или святош, которые отняли у него «последнюю свечку», Жаккелину. Несколько слов из неотосланного письма дают нам заглянуть в тогдашние чувства его: «Эти господа очень боятся, что маленькое промедление может быть причиной большого, и потому так спешат с ее пострижением… Вот чем они мне заплатили!»[133]
В то же время мать Анжелика, утешая Жаккелину, с беспощадною нежностью вонзает ей нож в сердце: «Главным сокровищем вашей семьи была та любовь, которая доныне делала все между вами общим. Вот чего Богу угодно было вас лишить». А мать Агнесса повертывает нож в сердце: «Слишком ваш брат погружен в суету мирскую, чтобы отказаться от личных выгод для той милостыни, на которую вы хотели бы употребить эти общие деньги. Нет, чуда Благодати от такого человека ждать нельзя»[134]
Видя горе сестры, Паскаль уступает ей во всем, «но более из чувства чести, чем по любви».[135] «Он приехал ко мне в Пор-Руаяль-на-Полях с очень сильной головной болью от великой обиды, но все же немного смягченный, судя по тому, что вместо двух лет отсрочки, о которых просил меня в последний раз, согласился подождать до Всех Святых, а когда увидел, что я остаюсь твердой, то смягчился уже окончательно», – вспоминает Жаккелина.[136] Это значит: признал себя побежденным.
7 марта 1652 года Жаккелина пишет брату: «Если вы не имеете силы следовать за мной, то, по крайней мере, не удерживайте меня… Не отнимайте у меня того, что вы не можете мне дать… Я хотя и свободна, но нуждаюсь в вашем согласии, чтобы сделать то, что я сделаю, с радостью и душевным спокойствием… Сделай же по доброму чувству то, что, все равно, ты должен будешь делать по необходимости».[137] В этом внезапном переходе с «вы» на «ты» больше силы, чем во всех словах.
Жаккелина постриглась под именем «сестры Евфимии». Когда Паскаль в первый раз увидел ее в толстой белой шерстяной накидке с огненно-красным крестом на груди и в длинном черном платке, плотно облегавшем как будто вдруг постаревшее и пожелтевшее лицо ее, на котором яснее выступили оспенные рябины, то не узнал сестры. «Что они сделали с ней, Боже мой, что они сделали!» – подумал он с удивлением и каким-то злорадством, жестоким не к ней, а к себе, и тут же преподнес ей давно уже приготовленный к ее новоселью подарок – сообщил, что «намерен жить, как все живут, – поступить на казенную службу и выгодно жениться, и что уже приглядел себе невесту, знатную, красивую и богатую девушку».[138]
Молча опустила глаза сестра Евфимия, и в лице ее ничто не изменилось. Но по тому, как тонкие губы сжались в ниточку так, что побелели, – он понял, что удар был меток и глубок, прямо в сердце; но понял и то, какая это была жалкая месть.[139]
11
В самом конце 1654 года Паскаль приходит к Жаккелине с повинной головой. «Он признался мне, – вспоминает она, – что вдруг почувствовал великое презрение к миру и почти невыносимое отвращение к людям, живущим в миру… Муки совести никогда еще с такою силой не побуждали его отречься от мира… Но вместе с тем он чувствовал, что так покинут Богом, что не испытывает к Нему никакого влечения, и хотя изо всех сил стремится к Нему, но только по разуму, а не по действию Духа Божия… О, какими страшными цепями он должен быть прикован к миру, чтобы так противиться Богу!.. Все это он говорил так, что мне было жалко его».[140] «Я была за него в муках родов, доколе в нем не изобразился Христос», – могла бы сказать Жаккелина о брате своем, Паскале, как Павел – о братьях своих, Галатах (Гал., 4:19).
В эти дни Паскаль испытывает ту страшную «сухость сердца», которую так хорошо знают святые: Бог держит человека за руку, ведет его и вдруг покидает. «Лучше бы Он меня совсем не вел, чем так покинул!» – думает человек и чувствует себя еще более отверженным, одиноким и погибающим, чем до «обращения» к Богу.
Все эти муки Паскаль хотел заглушить математикой и для этого снова принялся за прерванный пятнадцать лет назад «Опыт о конических сечениях». Но тщетно: никогда еще не говорил он себе с таким отчаянием, как в эти дни: «Все, что не Бог, не может меня утолить», и никогда еще наука не казалась ему такой бессильной наполнить бесконечную пустоту сердца его.
«В эти дни он бывал у меня так часто и подолгу, что, казалось, не было у меня другого дела, кроме этого, – вспоминает Жаккелина. – Но я только следовала за ним, не убеждая его ни в чем, и видела, что он возрастает в душе так, что я не узнавала его… особенно в смирении, в покорности и в желании быть уничтоженным в человеческом почете и памяти».[141] Жаккелина радовалась за него, потому что знала, что казавшееся ему гибелью было для него, на самом деле, единственным путем к спасению.
Однажды катался он по Нейлинским рощам в карете, должно быть, герцога Роаннеца, на шестерке молодых горячих лошадей, когда две пристяжные, закусив удила и съехав на мост, где не было перил, кинулись в воду, а карета повисла на самом краю моста и, если бы вожжи не оборвались, то упала бы в воду.[142] Чудом только спасся Паскаль.
«После этого несчастного случая он лишился рассудка», – скажет Вольтер, что, конечно, неправда. Но очень возможно, что бывшая всегда у Паскаля «боязнь пространства» после этого несчастного случая действительно усилилась.[143] «В пропасть люди беспечно бегут, что-нибудь держа перед глазами, чтобы не видеть пропасти». К этому страху метафизическому прибавился теперь и страх физический.
«Чудилась ему всегда с левой стороны бездна, и он туда ставил стул, чтобы от нее закрыться… Сколько бы ни говорили ему друзья, что бояться нечего, – он хотя и соглашался с ними, но через несколько минут снова видел бездну», – вспоминает аббат Буало.[144]
Если оба эти свидетельства – Вольтера и Буало – только легенды, то, может быть, все-таки не внешняя, а внутренняя правда есть и в них, так же как в легенде о клермонтской колдунье, «сглазившей» Паскаля в младенчестве: бывшая у него тогда «боязнь воды» – глубины – становится теперь «ужасом бездны». «Вечное молчание этих беспредельных пространств меня ужасает».[145]
Кажется иногда, что у Паскаля совсем иное, чем у других людей, ощущение пространства – как бы иная, не Евклидова, не земная геометрия, зависящая, может быть, от иного строения не только души, но и тела. Этот первый физический опыт есть для него источник и всех последующих опытов метафизических. «Истинному самопознанию научится лишь тот, кто увидит себя между бесконечностью и ничтожеством пространства, между бесконечностью и ничтожеством числа, между бесконечностью и ничтожеством движения, между бесконечностью и ничтожеством времени».[146] «Все от нас бежит в вечном бегстве, не останавливаясь: таково естественное состояние человека, хотя и наиболее противное тому, чего он желает, – найти что-нибудь незыблемо твердое, чтобы построить на этом основании бесконечно ввысь уходящую башню. Но всякое основание рушится под ним, и земля у ног его зияет до преисподней».[147]
Была с Паскалем бездна неразлучна.
Ах! бездна все – дела, слова, желанья, сны,
И часто дыбом волосы на голове,
Я чувствую, от ужаса встают.
Вверху, внизу, везде – зияющая пропасть,
Молчание, провал и пустота…
На тьме моих ночей свой бред многообразный
И непрерывный чертит Божий перст.
И сон меня, как черная дыра,
Неведомо куда ведущая, пугает…
Из каждого окна я вижу бесконечность.
И в головокруженье, мысль моя
Небытия бесчувственного жаждет.
О, никогда из Чисел и Существ не выйти![148]







