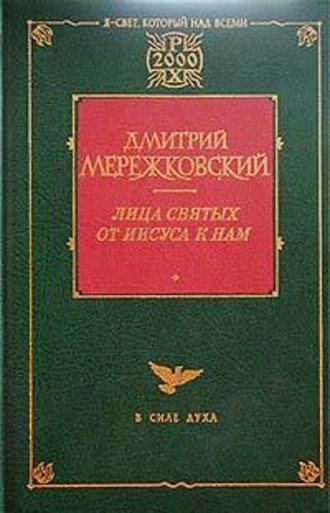
Дмитрий Мережковский
Франциск Ассизский
XXVIII
Так же спокойно раздевался он перед всеми, как человек один в комнате, где его никто не видит, и так же весело, как, в знойный день, купальщик, перед тем, чтобы кинуться в студеную воду. Легки были все его движенья, быстры, точны и необходимы, как в пляске. В эту минуту Франциск был в самом деле «игрец-скоморох Божий», joculator Dei, как потом сам себя называл, – «канатный плясун», – но на какой высоте ужасающей! Что, если сорвется, упадет? Нет, не сорвется: по канату, как по большой дороге, ходит.
Весело, точно играл; но смутно чувствовали все, что если для него – это игра, то для них – самое трудное дело: как бы великое и страшное, никогда еще не совершавшееся в мире таинство – Очищение, Обнажение, Освобождение человека ото всего.
Скинул все, кроме легкой шелковой рубашки, матернего тоже подарка. Думали, что в ней и останется. Нет, – все таким же быстрым и точным, необходимым, как будто плясовым, движением поднял и ее над головой, скинул и бросил к ногам своим.
Тихо ахнули все, увидев смуглое, стройное, тонкое-тонкое, как из слоновой кости точенное, целомудренно, как у древних Олимпийских богов или у первого человека в раю, обнаженное тело. Чресла только обвивала узкая, черная, колюче-шершавая змея – власяница; но обнаженное тело казалось от нее еще обнаженнее. И так же, как на жаркой ниве колосья волнуются от сильного, свежего ветра, человеческие души взволновались от веяния Духа.
Быстро наклонился Франциск, поднял лежавшую у ног его одежду; подойдя к отцу, поклонился ему изысканно-вежливо, как рыцарь, победивший на турнире, – побежденному сопернику, и положил одежду у ног его.
Тот стоял как громом пораженный, неподвижнее, скованнее всех, но видно было, по лицу его, что если бы он только мог пошевелиться, то кинулся бы на Франциска, как тогда, на городской площади, где уличные мальчишки смеялись над ним; схватил бы его за горло и теперь, может быть, сделал бы то, чего тогда не сделал: задушил бы тут же, на месте.
XXIX
Таким светом озарилось лицо Франциска; всех оглянул (каждому казалось, что на него одного смотрит), поднял к небу глаза, поднял руки и голосом, которого не суждено было забыть никогда никому из слышавших его, воскликнул:
– Слушайте все! Был отцом моим доныне Пьетро Бернардоне; но вот, я отдал ему все, что от него получил, и теперь уже могу сказать свободно: не отец мой, Пьетро Бернардоне, а Господь, Небесный мой Отец! К Господу иду я, нищ и наг![111]
Все поднялись, и сделалось вдруг такое смятение в палате, как будто в ней вспыхнул пожар. Только один монсиньор Гвидо сохранил спокойствие и сделал именно то, что прилично было сделать князю Римской церкви: быстро сойдя с престола, обнял Франциска и покрыл наготу его своей фиолетовой епископской мантией, в знак того, что сына, отрекшегося от отца земного, приняла на лоно свое Церковь-Мать. Но так же было ровно-серо и холодно лицо его, как всегда.
Свел-таки все дело мудрый церковный политик к тому, чего хотел: сделал небывалое бывшим, новое – старым, необычайное – обыкновенным; и то, что не могло чем-то не кончиться, – кончилось как будто ничем.
Но поняли это люди и оценили только много времени спустя, а в ту минуту пламя пожара пылало в сердцах, как в сухом лесу, и люди еще не знали, чтó оно сожжет.
XXX
Чей-то старый, до дыр изношенный плащ, такой же камзол и штаны, выданные Франциску, в палате суда, пришлись ему как раз по вкусу, – лучших бы себе не пожелал; только перед тем, чтобы надеть их, попросил кусочек мела и нарисовал на темно-коричневом сукне плаща, там, где он закрывал спину, большой восьмиконечный крест, чтобы издали и сразу было видно, кто одет в это платье и для чего.[112]
Прямо из палаты суда пошел Франциск на гору Субазио, чтобы там, далеко от людей, сказать Богу то, чего не мог бы людям сказать, и чтобы радость, переполнявшую сердце его, в сердце Божье излить.
Было начало апреля. Предполуденное солнце пекло уже на Ассизских улицах, как в жаркое лето, а на горе все еще было свежо по-зимнему. Кое-где, на дне тенистых оврагов, лежал еще снег, и в дорожных колеях, под ногою Франциска, похрустывал тонкий ледок. Но тут же, рядом, в ярко-зеленеющей траве, уже зацветали фиалки и ландыши; черные, на старых дубах набухшие почки лоснились, и молодые березы вдали уже прозрачно дымились первою зеленью. Солнце и здесь, кое-где на угревах, жгло сквозь ледок, и упоительно было это сочетание огня со льдом, как огненно-пьяное, в замороженном хрустале кипящее, вино.
Небо казалось Франциску таким голубым, что он все удивлялся, точно в первый раз увидел его и узнал, что оно может быть таким. Глазом человеческим почти никогда не зримая, как будто невозможная, чистота-нагота была в этом небе, – такая же, как в чудесно-обнаженном давеча перед людьми теле Франциска.
В солнце утопающий, невидимый жаворонок пел; пел и Франциск. Так же как всегда, в минуты «восхищения», raptus (этого церковного слова не знал он и, может быть, узнав, не понял бы), он пел не на родном, а на чужом, всемирном для него, французском языке; знал его, впрочем, довольно плохо и коверкал смешно, но это его не смущало: чем смешнее, тем радостней.[113] Пел не церковную песнь (их тоже почти не знал), а мирскую, – одну из тех, что пели бродячие певцы-трубадуры и скоморохи на юге Франции, – с детства заученную песнь любви к Прекрасной Даме. Только сейчас узнал, как любит Ее, – оттого и радовался так.
Gentile Donna! Gentile Donna!
Прекрасная Дама! Прекрасная Дама!
– все повторял, глядя широко открытыми глазами в голубое небо, как будто звал и ждал Ее оттуда. И к старой песне прибавлял уже от себя два новых, забытых людьми, неизвестных имени: «Нагота» и «Свобода».
А когда умолкал, потому что все хотел и не мог вспомнить третье имя, самое забытое людьми, неизвестное: «Дух», то утопающий в солнце, невидимый жаворонок пел как будто за него; но ему казалось, что это не жаворонок, а его же собственное сердце поет в небе, умирая от блаженства.
XXXI
Вдруг, точно из-под земли, выскочили перед ним какие-то очень странные, но знакомые, как будто во сне, много раз когда-то виденные люди, с кривыми сарацинскими саблями, длинными ножами и дубинками, – все на одно лицо, тоже как будто знакомое, но прескверное (не для Франциска, впрочем: «скверным» не казалось ему ни одно из человеческих лиц, а разве только жалким).
Молча они окружили его, и один из них в высокой, волчьего меха острой шапке, положив ему руку на плечо, спросил:
– Кто ты такой?
«А сами вы кто?» – хотел было спросить Франциск, но, вглядевшись в лица их, понял, что они ему не ответят; да и бесполезно было спрашивать, потому что он сам уже догадался – вспомнил, так же как в знакомом сне, что это разбойники, «воры», а тот, в волчьей шапке – атаман.
– Я герольд Великого Царя! – ответил Франциск так изысканно-вежливо, как будто говорил с рыцарями рыцарь.
– Ну ладно, раздевайся! – велел ему атаман.
«Два раза в день раздеваться, не много ли будет?» – подумал Франциск с тихой усмешкой, но, опять вглядевшись в их лица, понял, что им лучше знать, и снял плащ: хотел было стереть на нем нарисованный мелом крест, но не успел: кто-то выхватил плащ. Сняв и камзол, отдал его сам; начал было снимать и штаны.
– Стой, погоди! – остановил его атаман, вывернул карманы штанов и, не найдя в них ничего, кроме дыр, сказал:
– Нет, не надо, – рвань! Да и куда ты без штанов пойдешь!
Но башмаки, еще довольно крепкие, велел снять. Кто-то, пощупав ткань на рубашке, добротна ли, тоже велел снять, но другие сказали:
– Полно, оставь – утренники нынче холодные!
Что-то о Добром Разбойнике хотел было вспомнить Франциск, но не успел. Разбойники, схватив его за руки и за ноги, подняли, раскачали и кинули в довольно глубокую, талым снегом полную яму. Все захохотали, и кто-то крикнул ему сверху:
– Доброй ночи, герольд, и поклон от нас Великому Царю![114]
XXXII
В яме было много снегу, а под ним – куча прелых листьев. Мягко упав в нее, Франциск не ушибся, но угруз и долго барахтался, пока наконец, ухватившись за сучья свалившейся в яму сухой сосны и с трудом по ней карабкаясь, не вылез.
Весь до костей промок в ледяной от талого снега воде, – посинел и дрожал так, что зуб на зуб не попадал.
Плохо бы ему пришлось, если бы пал духом; но смутно, как сквозь сон, помнил, что все это с ним уже было где-то, когда-то и все хорошо кончилось.
«Третья по счету, яма, – подумал он вдруг, с тихой усмешкой. – В первую, – от отца спрятался, во вторую, – отец посадил, и вот – третья. А сколько еще будет впереди?» Но, сколько бы ни было, знал, что вылезет из всех или Кто-то вынесет его, – и кончится все хорошо.
XXXIII–XXXIV
Вышел на лесную поляну, где солнце пекло, ударяя с полдня прямо в стену красновато-желтого песчаника. Сняв штаны и рубашку, развесил их сушиться на сучьях кустарника и, чтобы согреться, начал скакать, плясать голый на солнце.
Был плясуном прирожденным: как все живое умеет дышать, не учившись, так он умел плясать.
Все его движенья были так легки, что казался порхающей бабочкой: вот-вот, казалось, выше вспорхнет и улетит.
Солнце на небе пекло, а другое солнце, по мере того как он плясал, всходило в нем самом, и это, внутреннее, было горячее того, внешнего; так между двумя солнцами, голый, плясал.
Вдруг остановился, прислушался. Жаворонок в небе больше не пел или так высоко поднялся, что не слышно было, как поет. Но множество других птиц пело в лесу, как будто все они хотели утешить и ободрить его, сказать, что все будет хорошо.
«Сестры!» – подумал он с тихой улыбкой и, как будто удивляясь и радуясь, что вдруг понял – вспомнил, несколько раз повторил: «Сестры, Сестры-Птицы!» Теплую землю, переступив босыми ногами, пощупал и обрадовался: «Мать!» Вспомнил, как давеча воры, сжалившись над ним, оставили ему штаны и рубашку, и обрадовался еще больше: «Братья!»
И опять начал плясать, еще радостней, между двумя Солнцами.
Сколько времени прошло, не помнил, все в мире забыл, и время для него остановилось. Но когда согрелся так, что сделалось жарко, то кончил плясать и, подойдя к тем кустам, где развесил одежду, пощупал: высохла. Одевшись, вышел на лесную дорогу в соседнее горное местечко, Губбио, и, пройдя немного, увидел в лесу бедную пустыньку. Постучался в ворота. Долго не отпирали. Отпер наконец старый инок, с почти таким же серым и холодным, ноябрьским лицом, как у монсиньора Гвидо.
– Кто ты такой? – спросил его так же нелюбезно, как давеча разбойники.
– Послушник от св. Демиана, – ответил Франциск. – Воры в лесу, раздели. Старенькой бы ряски, да хлебца, ради Христа!
Молча, с головы до ног, оглянул его старик, как будто хотел сказать: «Сам бы кого не раздел!», но все-таки впустил.
Несколько дней прожил Франциск в пустыньке, работая за четверых: стряпал, мыл полы, таскал воду, колол дрова, и получал за все такие объедки, что не всякий пес на них польстился бы.
Убедившись, наконец, что одежды никогда не заработает, ушел в Губбио, где, отыскав приятеля, гостя ночных пиров своих, получил от него то, чего хотел, – темную, грубого сукна одежду, наподобье монашеской, такой же плащ с куколем, кожаный пояс, пару деревянных башмаков да посох. И, радуясь, что кончилось-таки все хорошо, вернулся в Ассизи, к св. Демиану.[115]
XXXV
Снова принялся чинить церковь, выпрашивая по домам, ради Христа, тесаных камней, кирпича, извести, старого железа, досок и прочего; а также ладана, свечей, масла для церковных служб, пшеничной муки и вина для Причастия, а себе на пропитание, – объедков. Деньги брал неохотно и торопился их сбыть, как будто они жгли ему или пачкали руки.
Милостыню выпрашивал большею частью на французском языке, с прибаутками, как нищие скоморохи и трубадуры на юге Франции.
– Кто даст один кирпич или камень, одну получит награду; кто же два – две; кто же три – три! – добавлял уже по-итальянски, чтобы всем был счет понятен, и делал это с такой любезной улыбкой, что самых грубых и злых людей обезоруживал.[116]
Уличные мальчишки все еще бегали за ним, кричали ему «дурака» и кидали в него грязью, но уже не так весело, как прежде: одним наскучило, а другим доставалось за это от взрослых, потому что и у тех проходила охота смеяться над ним: как бы все ни забыли того, что смутно почувствовали, увидев чудо обнажения в палате суда, – помнили достаточно, чтобы не удивиться, наконец, и не задуматься: «Чтó он делает или чтó делается с ним?» Самые же умные и совестливые испытывали, вместе с удивлением, глухую тревогу за себя и за все, чем доныне жили и чем все люди живут. Если бы человек заболел никому не известной, никогда не виданной болезнью, то здоровые испытывали бы нечто подобное: «Как бы не заразиться и нам!»
Слишком для всех было очевидно, что если «Французик» всегда шутил, то теперь уже не шутит; слишком удивительно было это внезапное превращение белоручки-неженки в чернорабочего, чтобы, проходя мимо него, не взглянуть с любопытством, как наваливает он себе груз кирпичей на слабые плечи, терпеливо носит на стройку камень за камнем, бревно за бревном, точно муравей – песчинку за песчинкой. И весел всегда: ходит, как пляшет; говорит, как поет; работает, точно играет; нищенствует – царствует, с таким видом, как будто что-то знает, чего другие люди не знают, а если бы знали, то хорошо было бы всем, так же как ему.
Многие ходили к св. Демиану смотреть, что и как он там чинит и строит, а так как совестно было, сложа руки, смотреть, как человек работает в поте лица, то помогали ему, особенно каменщики, которые охотно учили его мастерству своему, и он был так понятлив, что скоро сделался и сам недурным каменщиком.
С каждым днем приходило к нему все больше помощников, и работа наконец закипела так, что в немного дней церковь вся была починена, а кое-где и заново отстроена; рушащийся дом Господен обновлен.[117]
XXXVI
Радовался этому Франциск, но недолго: вдруг случилась с ним такая беда, какой меньше всего он мог ожидать.
«Сын, не бойся отца», – это повеление, услышанное им перед тем, чтобы выйти из первой темной дыры на свет Божий, он хорошо помнил, только оно и дало ему силу «покончить с отцом» (выразить того, что он сделал, нельзя было точнее, чем этими страшными словами: «с отцом покончить»). Но оттого-то, может быть, и случилась беда, что «покончил» не совсем.
В первые дни после епископского суда мессер Пьетро, встречая Франциска на улице (слишком был мал городок, чтоб не встречаться), не замечал его как будто вовсе и даже проходил нарочно мимо него, как мимо пустого места. Но потом, когда пошла по городу молва о новоотстроенной церкви Св. Демиана и все заговорили о Франциске уже по-новому, с любопытством и удивлением, мессер Пьетро однажды, увидев сына, подошел к нему с таким страшным лицом, что казалось, бросится на него сейчас и убьет; но только молча, заглянув ему прямо в лицо, отошел. Так же точно и на следующий день, а на третий, отойдя немного, вдруг остановился, обернулся, поднял руки и закричал таким голосом, что слышавшие долго потом не могли его забыть:
– Будь ты проклят, проклят, проклят, окаянный!..
Множество бранных слов вылетало из уст его, но, видимо, ни одно из них не утоляло его, не выражало того, что он чувствовал, а выразить это надо было ему, чтоб не задушил гнев, как стянутая на горле мертвая петля. И он все искал, искал и не находил. Вдруг нашел, – петля развязалась, – он передохнул и, видимо радуясь тому, что нашел-таки слово, закричал неистово:
– Отцеубийца!
И сразу умолк, затих, – пошел в одну сторону, а Франциск – в другую. Так разошлись, как будто сказали друг другу, что надо было сказать, и друг друга поняли.
Понял мессер Пьетро, – понял и Франциск, что значит: «покончить с отцом» – «отца убить».[118]







