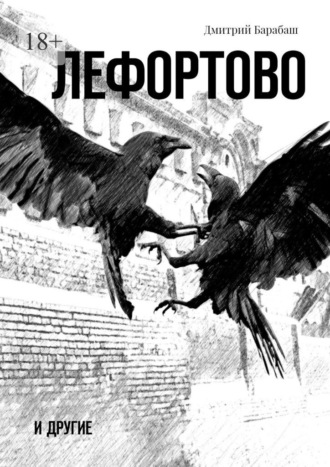
Дмитрий Барабаш
Лефортово и другие
Редактор Адель Барабаш
© Дмитрий Барабаш, 2023
ISBN 978-5-0060-4935-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ЛЕФОРТОВО
I. Хиромантия
Если гадать по ладони правой руки,
положив на неё Москву,
то у ложбинки под большим пальцем —
стечение важных линий,
определяющих продолжительность жизни,
женитьбу, судьбу,
рисующих кресты, треугольники, звёзды,
хвост павлиньих возможностей
из-под большого пальца, показывающего ништяк.
В той ложбинке – Таганка,
Андроников, доски Рублёва,
и выше, по жилке —
лефортовских тополей вороньи гнёзда,
лохматые гнёзда на звёздах,
почти не касаясь ветвей.
Москва, как перчатка лайковой кожи
с подкладкой из красного бархата,
не согревает руку январской ночью.
Большая Коммунистическая,
Товарищеский переулок,
Малые Каменщики, архивы НКВД
в чугунных воротах храма,
на площади – казино, оно же джаз-клуб,
Высоцкого несут по Садовому,
из-под моста
выползают человеческие тысяченожки,
Котельническая высотка свистит у виска
мотивчик из Визбора, Галича, Градского.
Спичечный коробок синагоги, лезвие Яузы,
носовой платок,
одурманенный бульварным жасмином,
сигареты в другом кармане —
Мальборо или тонкий More.
В баре у театра
в коктейле плещется Аравийское море.
Эскалатор спускается в преисподнюю
по трубке, по мрамору, по полировке,
из которой пылающие губки сосут
сукровицу с ликёром.
Церкви отряхивали перышки, золотились по новой.
Я любил Таганку из горлышка. Голой
холодной бутылкой розового вермута.
Где она вера та?
Красным язычком высовывается изо рта
двуглавого беркута,
кремлёвского сокола, леденцового петушка?
Трёхпалая баранья варежка
с указательным на крючке,
завиток гостиницы Россия щёлкает косточкой,
выворачивая сухожилие.
Справа, в непроглядной нежности
прячется Старая площадь.
Там, в закрытом ЦеКовском ряду
торгуют запрещёнными книгами по спецпропускам,
ноябрями выставляют оцепление,
ловят полами шинелей вьюгу,
которая навывает Визбора, Галича, Градского,
вяжет узорчики шёлковой ниткой,
свистя в лафетные дырочки под гробами,
листья шелестят,
на глазах истлевая до чёрных стеблей,
до лефортовских тополей,
закинувших вороньи гнёзда в звёздное небо.
Кремлёвские соколы зорко следят
за крикливыми стаями,
не позволяя спускаться в границы режима.
II. Оглянись
Так вот, мельком, прожив одну жизнь молодым
до какой-нибудь старости,
оглянешься оттуда туда, где как будто бы молод,
и кивнёшь себе вновь,
будто знаешь, что будет и было,
и оттуда себе подмигнёшь с неуклюжей печалью.
И поди разберись кто ты, где ты, в какие эпохи,
что ты видишь насквозь, что пронзает тебя
от рожденья до смерти,
и обратно от смерти к рожденью,
и снова пронзает тебя.
Где ты молод, где стар,
где ты весел, где грустен, печален,
где влюблён, где обманут,
где пьян, где предательски трезв.
И натянешь Москву, как перчатку на девичью ручку
и пытаешься снова холодным дыханьем согреть.
Красный бархат шершав и назойлив,
как и память о байковом прошлом,
пальцем водишь и водишь
по тем же знакомым местам,
на себя озираясь,
себе представляешься пошлым,
и от взгляда оттуда
пытаешься спрятаться сам.
III. Воронообожаемый
Отец сетовал, что его обожают вороны.
Пойдёт прогуляться с дамой в тени тополей,
так они обязательно насрут
на фуражку или погоны —
счастливили, бля, безжалостно,
что в Киеве, что в Москве или опальном Оше.
Потому, подходя к ветвистым деревьям,
он грозно кашлял, хохотал, хлопал в ладоши.
Они взлетали. Кружили над ним и над ней.
И прицельно серили, знать, чтобы водились гроши.
Отец был жизнелюбив и радостен неспроста.
Его пометили белым серой эпохи каркающие гады.
Когда он умер, его награды
я продал нумизматам
около таганского моста,
чтобы дотянуть до следующей зарплаты.
IV. Москварек
Под мостом таксопарк,
где и в сухой закон, и в промозглую скуку ночь,
можно белой купить у водил за червонец драный.
А Москва-река – огромадный живой крокодил,
под Кремлёвской набережной
шевелит пупырчатой кожей.
Хищный гад ползёт,
вихляя ленивым на вид хвостом,
в фонарях двоится, Лужники огибает нежно.
Ничего не подозревая влюблённые парочки
целуются у реки.
Целовался когда-то и я
в гормональном бреду, конечно,
чтоб зачать себя же, ха, и снова ему скормить,
любоваться речкой, мраком ея упиться,
то шерстить по суше, то в жиже болотной плыть,
то собой притворяться, то с земноводным свыться.
Крокодилы, вы скажете, в наших краях не живут,
от морозов мрут в ильичовых горах
и от страха дохнут в виссарионовых чащах…
Милой сердцу отчизне вечно пророки лгут,
но как же мерзавцы врут безупречно,
лучше, чем настоящее.
Наша, признаться, самая,
из выпавших мне земель,
напитками цвета радуг,
ласками асфальтовых осязаний,
жаром пустых побед,
мелом святых Емель,
грузом хмельных планид,
трепетом притязаний.
Алчущий неба спрут.
Щупальца шарят в бездне…
Как тут пророки врут —
верится, хоть ты тресни!
V. Свинья и жёлудь
Здесь гармонично всё: и жёлудь, и свинья;
работа и семья; Ромео и Джульетта;
и море, и Гомер.
Нет спичек в коробке. Так что же в нём гремит?!
Тряси и слушай страшные секреты.
Встречал ли ты свинью хоть раз в тени дубрав?
Средь вековых стволов бродил один по воле?
Живую гладил фрю?
Прикуривал от спички на ветру?
Да, были свиньи в наше время.
Не то, что нынешнее племя…
Теперь у каждой свиньи —
отдельный апартамент с гаджетом.
Жмёшь мокрым пятаком на диодную кнопку —
и сразу из хромированного раструба в стразах,
из цифрового рога изобилия, образно говоря,
вываливается кормовой брикет
с полным букетом
питательного вещества и витамина.
Жри – сколько поместится,
набирай продуктовый вес.
Свет и тепло комфортного порядка
чутко дозируется электронными датчиками
для каждой особи персонально —
по упитанности, возрасту и прыти.
Счастливые хрюшки в кибернетическом блаженстве
жиреют на радость добропорядочным свиноедам.
Наконец-то сбылись революционные мечты
люмпенов всех времен и наций.
Гламурный век!
Уютный инкубатор!
Москва моя, цветущий Улан-Батор,
свободой опьяняющий Пхеньян.
Купи – продай. Назови букву, угадай 6 цифр,
играй и выигрывай в мобильном раю
контракт-хрю, грант-хрю,
нобелевскую премию-ю-ю-ю.
Маркетинг – всемирная религия успеха,
общечеловеческая идеология позитива
всасывает в себя
разношёрстные прежде прослойки
народонаселений
и выдувает из обратного отверстия
моно-фактурное серое полотно высокой плотности.
Вот он!
Идёт с вывернутыми для нежности наружу
ботексными губами, вцеловывая конфессии,
культурности, национальные интересы
и сексуальные ориентации без разбору!
В узбекском TV вещании – узбекские
битлы, меркури, пугачевы, блестящие.
В туркменском – туркменские.
В монгольском – монгольские.
Макдональдс – законодатель модов.
Работа и семья, Ромео и Джульетта —
поголовная графомонетизация масс
и частная перкуссия бочки,
осуществляемая изнутри:
бом-бом-бом-бом…
Вечерний звон.
Представь,
решишь пройтись по Александровскому саду,
восхититься скульптурами
мегрельского Боттичелли,
присесть с эскимо на скамеечку,
в тени векового дуба,
весь такой – с оттопыренным мизинцем,
в штиблетах, слепящих солнце.
Прикусишь антикварную спичку,
романтично поцыкивая
соседним фарфорным зубом,
и кривишь рот в мужественной полуулыбке.
Чуть поодаль секьюрити любуются одуванчиками,
закатив глаза слушают трели чижиков,
и среди этой идиллии
из пузырей фонтанной радости,
вдруг выпрыгивает взаправдашняя
розовая свинья
размером с гиппопотама московского zoo,
подмигивает тебе понимающе,
урчит бесстрашно, вертит башкой,
окропляя твоё лицо и штиблеты
искристыми брызгами,
прёт, причмокивая, в тень того самого дуба,
под которым ты гармонируешь с жизнью,
летит, можно сказать, на крыльях желания
к своему, изнывающему от сладострастия
долгожданному жёлудю.
То-то же!
Тут, конечно, как же иначе, пуф-пах, стрельба,
свинью изрешечивают, героев награждают,
вручают почётно, под музыку, стуча каблуками,
со всей помпезностью, подобающей случаю,
и, как это принято, откуда ни возьмись,
выплывают столы со скатёрками
на тоненьких белых ножках,
изящно в коленях присогнутых
в барочном реверансике,
под песнопения и пляски
местных эстрадных див, королей рок-н-ролла,
лауреатов Голоса,
победителей рэперских баттлов;
приглашённая элита, чинненько так,
помявшись с туфли на туфлю для приличия,
рассаживается,
все излучают подобострастную прелесть,
приноравливаются к вилкам и ножикам
золочёного серебра,
беря их пальцами
с осторожной аристократичностью,
проговаривают быстренько, про себя,
заготовленные шутки и здравицы,
если, вдруг, случаем, огреет вниманием Он,
подсядет нечаянный рядом
или поведёт в твою персонь
жёлтой своей бровищей
и, мало кто, понимаешь ли, позволит себе
аж целую рюмку запрокинуть залпом
– пригубливают в щёчку,
как первоклассницу
на торжественной линейке города Хрюнинска
Хрюнинской же школы специального назначения,
имени того самого Хрю.
Короче,
силовые министерства озадачены инцидентом,
вводится красный режим
террористической опасности,
нашествие свиней, возникающих ниоткуда,
в неподобающих местах,
приравнено к национальному бедствию,
учреждаются департаменты по отлову
и скоропостижному обезвреживанию
вольных нежвачных парнокопытных
во всех губерниях и весях
снисходительно демократичной
и безжалостно бдительной державы,
тут же, разумеется:
штат, бюджет, сметы, гранты, контракты
и пр., что следует.
Здесь гармонично всё.
И жёлудь, и свинья —
всё движимо любовью.
Да что б я так шутил!
Мне вовсе не до шуток,
постмодернистских слёз с весны идут дожди,
когда б я знал, когда пускал газетных уток*, —
что те обрящут плоть и встанут у кормил.
Вот делай вид теперь, что так оно и надо,
что, вроде, всё путём, и ты здесь – ни при чём.
Как школьник тупишь взгляд и мнёшься виновато,
и жмёшь к щеке плечом, и жмёшь к щеке плечом.
* Когда б я знал, в юношеском запале, воображая политических селезней и важных газетных клуш, что они материализуются в средневековом отчаянии человеческого величия, сказочно воспарят на олигархическом или чиновном поприще и станут в отместку усталым смыслам прагматично выжимать из реальности диковатое всеядное фантасмагорическое о ней представление, цинично и чудовищно-справедливо утверждая его одиноко возможным в бушующей мировой многополярной раздвоенности.
VI. 90-е
О, девяностые!
Паранойя моей безутешной радости.
Утром, что, жив ещё.
Вечером – до беспамятства.
Адреналин черпай жестяными вёдрами.
Когда братцы с холуйскими мордами
получают в лапы наган и бейсбольную биту —
враз становятся сильными, умными, гордыми.
Те, кто наверху управляли людскими потоками
(как им казалось),
не обладали стальными коками
(как оказалось).
Так – пофукали, сяк – поокали
и очко сжалось.
Грязевые потоки
стали вилять высокими
дяденьками, отстёгивая им на старость.
В банде должен быть вожак,
которого боится стая,
на каждый шорох – пух-пах,
за прямой взгляд – Косая.
Она-то, всё, что начиналось весело,
в конечном счёте и уравновесила.
VII. Осень Богов
Герман* рисовал осень,
чавкающую грязь, голые ветки,
скребущиеся в каменное небо, сдирая ногти.
Герман рисовал первый боязный снег и мороз,
прихвативший слегка
смрад коричневый пастбищ людских.
Мы озимые сеем.
А зимы здесь жутко длинны…
Доживут ли ростки в мёрзлой хляби
до дальнего лета?
Кто увидит их там, за пределами смутных веков?
* Алексей Герман, режиссёр фильма «Трудно быть Богом».
VIII. Допрос
Вызвали. Стул привинчен к полу.
– Присаживайтесь.
Сами сознаетесь или помочь?
– В чём? – спрашиваю. – Я не против
признаний. Только ими и разговариваю
сам с собой, поскольку остальным
обитателям наших геополитических раздолий
и лингвистического бурления на согласных
не хватает терпения до конца фразы,
ищущей выход из ею же сложносочинённых
коридоров,
создающих кристаллические вкрапления
в монолиты чёрного бесконечного.
Записывайте, пожалуйста, можно без знаков,
без препинаний, опуская вводные,
я всё с удовольствием после заверю.
Так вот, с той стороны
целлофан истерзан иголками
чистого разума,
словно я в чёрном помятом
пакете из гипермаркета
несу флуоресцентную лампу
с мобильным зарядным устройством,
и сквозь микроскопические проколы наружу
пробивается её шизофренический свет
с голубоватым оттенком районной поликлиники.
Если вчитаться в рисунок
на шелестящей поверхности,
то из блистательных дырочек
проступят будущие вершины созвездий,
соединённые грубым резцом
допотопной фантазии,
символизируя тайную
от себя самой закономерность
наскального граффити больших
непреложных доселе беспорядковых чисел
так, что оказываешься не снаружи,
а внутри того чёрного пластика,
наблюдающим свет, цедимый вовне,
сквозь микропроколы бессознательной тишины.
Так происходит перетекание,
просеивание внешнего
в сокровенное и обратно
из внутреннего, замкнутого
в то, что по ту, неведомую, казалось бы, сторону,
до тех пор, пока не становится неотличимым
одно от другого и только тонкая плёнка
чёрного пластикового пакета
из перекрёстка, пятерочки или дикси
формирует реальность, овеществляет иллюзии,
задаёт им границы
конкретных потребностей,
отметая абстрактные нагромождения,
притянутые за уши для того,
чтобы сотворить, наконец-то, нечто
из абсолютного ничего,
сжимая его протяжный свист
в осязаемую весомость.
Подозреваю, что такое сотворение
может случиться только благодаря
налетевшим в дверную щелку
пылинкам прошлых воплощений,
развеянных сквозняком блуждающей иронии.
Вы пишите?
Сразу, пока не забыл,
хочу пожелать вам искреннего
спасибо за стул,
судя по всему, жёстко привинченный к полу.
Надеюсь, и стол закреплен
чугунными скобами к доскам,
и лампа приклеена эпоксидной смолой
к белотелой столешнице.
Вижу, дверь на надёжном засове,
потому и не клацает челюстью.
Только держите, пожалуйста, крепко или
хотя бы прижмите рукой,
облокотитесь, как бы в пытливой задумчивости,
на папку с моим личным делом.
Весьма ненадёжная субстанция, надо заметить.
Вспорхнёт – и лови её всюду, разом по всем
закоулкам хохочущей памяти,
склонной к тому же кривляться
на волнах неприличных созвучий
и прятаться там, где ни в коем нельзя, даже вам.
Пока не поймают за крылышки в сахарной пудре
и не приторочат булавкой к фанерной основе
хранители вектора времени в трёх перспективах.





