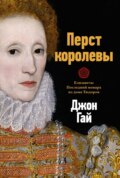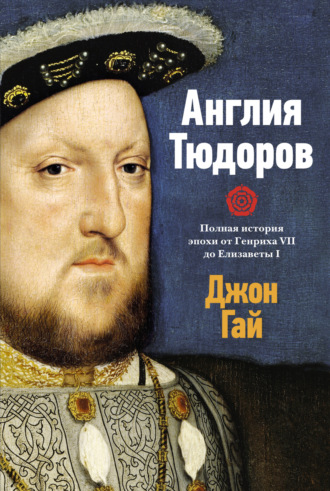
Джон Гай
Англия Тюдоров. Полная история эпохи от Генриха VII до Елизаветы I
Оценить профессиональный уровень духовенства без университетского образования сложная задача, поскольку подавляющую часть нашей информации мы получаем из отчетов, составленных во время епископских или архидиаконских инспекций. Разумеется, эти отчеты составлялись только тогда, когда священники не отвечали требованиям прихода и когда их квалификация больше заботила паству, чем их духовных пастырей. Однако комментарии в литературных источниках в значительной степени нереалистичны. Персонаж поэмы Уильяма Ленгленда «Видение о Петре Пахаре» (Vision of Piers Plowman) «Священник-Лень» предпочитает наедаться, спать или возлежать в постели со своей женщиной, пока не кончится месса, не знает «Отче наш» и каноническое право, не способен понять ни единого стиха псалмов и истолковать его своим прихожанам, а главное его занятие выслеживать зайцев, однако это художественный вымысел[33]. Священники и адвокаты были популярными объектами литературной сатиры; источником Ленгленда, несомненно, стал труд Oculus sacerdotis Уильяма Пейджа, составителя проповедей XIV века:
И много в наши дни священников, которые и сами не знают Закона Божьего, и не учат ему других. Предаваясь лени, они проводят время в пирушках и гулянках, они жаждут мирских вещей и преуспевают в этом, всегда на улицах, но редко в церкви, не торопятся разбираться в грехах своих прихожан, но всегда готовы разглядывать следы зайцев и других диких зверей… Они скорее накормят собаку, чем бедняка; скорее найдешь их за столом, чем на мессе; они хотят видеть вокруг себя слуг и служанок, а не служителей церкви[34].
Каноническое право требовало от священников читать проповеди минимум четыре раза в год, посещать больных, ежедневно служить мессу и принимать исповеди своих прихожан по меньшей мере раз в год. Они должны были вести честную жизнь, соответствующим образом одеваться, избегать постоялых дворов и публичных домов, а также гарантировать, что их отношения с женщинами безупречны. В действительности существовали священники, которые пропускали службы, не читали проповеди и имели опасные склонности: приходский священник Аддингтона в графстве Норгемптоншир, привлеченный к судебной ответственности Линкольнским епископским судом в 1526 году, имел двоих детей от своей кухарки и разгуливал по деревне в кольчуге. Однако огромное большинство духовенства должным образом исполняло повседневные обязанности, хотя сомнительно, читали ли они проповеди и посещали ли больных. Особенно бросалось в глаза их поведение, потому что приходскому священнику было легко начать вести себя подобно другим сельским жителям: завести отношения со своей экономкой и проводить дни, возделывая огород. Если до правления Генриха VIII в церковные суды поступало мало обвинений в правонарушениях такого рода, то к 1520 году в Линкольнской епархии 12,5 % приходских священников были объектом разговоров о том, что они «имеют женщину». Одну пятую из них не подозревали в распущенности, но другую одну пятую явно подозревали и осуждали, при этом было много других случаев безнравственного поведения[35]. Кроме того, более бедное духовенство старалось пополнить свой доход за счет занятий сельским хозяйством и таким образом привлекало внимание к основной экономической проблеме церкви, поскольку многие церковные приходы (в основном на севере страны) обеспечивались недостаточно; в самом деле, чтобы священнику хватало средств существования, ему требовалось обслуживать несколько церковных приходов. Другие приходы, совсем наоборот, давали стабильный доход, даже становились ходовым товаром, который светские покровители рассматривали как свободное имущество. Однако если епископы сопротивлялись настойчивым покровителям, отвергая при возможности неподходящих кандидатов на выгодную должность, то многие неудовлетворительно посвященные в сан или не соответствующие роли пастыря все равно отвечали основным законным требованиям или приходили, вооруженные папскими особыми разрешениями[36]. Таким образом, до Реформации церковь не знала крупных скандалов, но такие злоупотребления, как проживание вне пределов юрисдикции, обслуживание нескольких церковных приходов, внебрачное сожительство и халатное отношение приходского священника к ремонту алтаря, продолжали обращать на себя внимание. Напряжение могли вызывать также споры о церковной десятине, плата за оформление завещания и взносы наследников приходскому священнику на помин души усопшего, плата за проведение мессы по особым случаям и чрезмерно жесткое обращение к подозреваемым в ереси. На самом деле, хотя природа и степень антиклерикализма изменились, когда первый развод Генриха VIII встал на повестку парламента, он действительно существовал до наступления эпохи Тюдоров, пусть и в значительно меньшей степени, чем в Германии.
Что можно сказать с полной уверенностью, так это то, что в XV веке еретиков было значительно меньше, чем правоверных англичан, хотя точное количество лоллардов неизвестно. Создатель этого движения Джон Уиклиф (приблизительно 1329–1384) – философ-схоласт, богослов, профессор Оксфордского университета, который поступил на службу к Джону Гонту и с его помощью избежал процесса в церковном суде, когда университетская комиссия сочла его виновным в преподавании ложных учений. Его первыми последователями были интеллектуалы, а требования Уиклифа, чтобы духовенство ограничило себя пастырскими обязанностями, его поддержка перевода Библии на английский язык и многократные атаки на церковную собственность обеспечили внимание определенных политиков, которые поначалу защищали лоллардских проповедников, а затем предоставили безопасные места для переписывания рукописей лоллардов. Однако восстание сэра Джона Олдкасла (1414) радикально изменило ситуацию, поскольку укрепило уже признанную в Европе связь между ересью, бунтом и изменой, и позволило епископам приступить к систематическим преследованиям, разрешенным каноническим правом, но прежде не имевшим поддержки светского общества[37].
До Уиклифа в Англии было мало ереси, к 1401 году на костре погибли считаные единицы еретиков. Одного альбигойца сожгли в Лондоне еще в 1210 году, а в 1222-м дьякона, перешедшего в иудаизм из любви к еврейке, лишили должности на местном совете Оксфорда и передали в руки шерифа, который отправил его на костер. Другими словами, немногие описанные случаи основывались на статутах о ереси Ричарда II, Генриха IV и Генриха V. Закон против лоллардов 1382 года осуждал еретические проповеди и приказывал шерифам и остальным людям оказывать помощь епископам, арестовывая и заключая под стражу подозреваемых, чтобы рассматривать их дела в церковных судах: ситуацию определило Крестьянское восстание предыдущего года. Принятый в 1401 году статут «О сжигании еретиков» (De heretico comburendo) разрешил казнить через сожжение лоллардов, отказавшихся отрекаться от своих убеждений или снова впавших в ересь после официального отречения и покаяния; это был первый в Англии светский законодательный акт, установивший обязанность светской власти сжигать еретиков, признанных виновными в церковных судах. И наконец, акт 1414 года обязал широкий круг светских чиновников и судей, шерифов, мировых судей и муниципальных служащих содействовать епископам в деле выявления и подавления ереси. Он также предоставлял для конфискации в пользу государства земли и имущество осужденных еретиков и уполномочивал судей Суда королевской скамьи назначать выездные сессии суда присяжных и мировых судей для раскрытия ересей посредством светских процедур предъявления обвинения и обвинительного акта, при этом обвиняемых следовало передавать епископам или их представителям для рассмотрения дела в церковных судах в течение 10 дней[38].
То, что закон о ереси применялся в XV веке до Реформации, ясно из судебных протоколов 1423–1522 годов. Есть свидетельства о 544 судебных процессах того периода, которые завершились 375 отречениями, 19 каноническими очищениями и 29 (возможно, 34) сожжениями. (Исход остальных процессов неизвестен[39].) Разумеется, это нижний предел данных – протоколы церковных судов до Реформации, как правило, неполноценны. Тем не менее понятно, что в количественном отношении ереси не составляли серьезной угрозы до разрыва с Римом, хотя были ли они угрозой по существу, судить сложно, так как в конце XV века наблюдался рост популярности лоллардов в отдельных регионах. К ним относились прежде всего графства Эссекс и Кент, Чилтернские холмы, долина Темзы, Мидлендс (центральные районы Англии), части Восточной Англии, города Бристоль, Ковентри, Колчестер и уорды (районы) Лондона Коулман-стрит, Крипплгейт, Кордвейнер и Чип. Позже лолларды, чье происхождение можно проследить, были в основном ремесленниками – ткачи, портные, перчаточники и скорняки – или посредниками в торговле тканями. Однако в Ковентри их сторонниками оставались некоторые видные горожане и бывший мэр. В Лондоне тоже были лолларды в коммерческих и властных кругах. На самом деле в начале XVI века лондонские лолларды, похоже, считали себя пионерами южного раскола. Правомерность такого мироощущения подтвердил тот факт, что их система взаимосвязи в 1520-е годы оказала большую помощь в распространении лютеранской литературы, как ранее в работе с собственными переводами Библии и циклами проповедей[40].
Насколько серьезно лоллардов можно считать предтечей протестантской Реформации, вопрос спорный. Они всячески критиковали власть папы римского и католическое духовенство; отвергали пресуществление при евхаристии, почитание икон, обязательную исповедь, индульгенции, паломничество и использование музыки во время совершения мессы. Единственным авторитетом для веры они признавали Священное Писание, читали проповеди и распространяли среди своих последователей Библию и религиозные трактаты в переводах на английский язык. Однако когда с ними столкнулись первые протестанты, две группы не всегда сходились во взглядах[41]. Тем не менее, пусть в среде лоллардов существовали различные направления, а учение Уиклифа выходило за рамки понимания простого человека, оксфордский реформатор опередил свое время в совершенно ином отношении: его неоднократные настояния, что «реформация церкви» в первую очередь политическое дело, подтвердил Генрих VIII. Как и германские императоры во время борьбы с папством за право назначения епископов, Уиклиф проводил различие между главами христианской церкви первых веков и их преемниками: в начальную эпоху христианства верховная власть принадлежала светским христианским монархам, а папы и священство довольствовались проповедованием истинной веры и проведением таинств. Таким образом, Уиклиф выступал за воссоздание Апостольской церкви, в которой светские правители вернут тиранов-священников к святости и лишат их власти[42]. Подобно Генриху VIII, он представлял себе государство в виде верховной власти короля и требовал роспуска религиозных орденов на том основании, что верховная власть не может мириться с существованием независимых конфессиональных корпораций. Все люди должны быть равны как подданные короны; при новом порядке организации общества, построенном в результате Реформации, граждане будут подчиняться светскому монарху как главе церкви и королю.
Уиклиф потерпел неудачу, потому что его патрон Джон Гонт не стал подвергать опасности стабильность королевства согласием проводить политику радикальных преобразований и поскольку слабость короны, а также фракционная природа политики во время малолетства Ричарда II препятствовали единству действий. (Генрих VIII, напротив, решительно поддержал радикалов.) Однако идея, что Реформация – это революция самого правителя, административный акт, введенный сверху разумным государством, была такой же пророческой, как и соединение настоящего государства с верховной властью. В этом отношении идеи Уиклифа выросли из обстоятельств Великой схизмы, когда католическая церковь уступила национализму. Однако, хотя Англия была более централизованным, менее плюралистичным обществом, чем Франция, здесь национальная идентичность формировалась поздно и явилась скорее результатом, чем причиной протестантской Реформации. Существование острого чувства «английскости», или «национальности», в XV веке совершенно очевидно, но понимания Англии как национального государства не было. На Констанцском соборе (1414–1418) представители Генриха V подчеркивали общий язык, территорию и кровное единство англичан, отстаивая отдельное право голоса. Однако если эти признаки и были отличительными характеристиками нации, то значение «границ» стало ощущаться острее, когда свое влияние оказала потеря Генрихом VI континентальных владений. Идентичность Англии быстро ассоциировалась с береговой линией. Поэма 1436 года «Клевета на английскую политику» (The Libel of English Policy), призывающая защищать на море английскую торговлю, гласила[43]:
У наших берегов храните море крепко,
Оно для нас ограда на века,
Если бы Англия была городом,
Море вокруг служило бы городской стеной[44].
Неизвестный автор трактата «Английские товары» (The Commodities of England, 1451) повторяет, что Англию узнают по ее естественным границам и характерным языкам – он назвал английский, валлийский и корнуоллский. Однако географическую, лингвистическую или кровную «национальность» никак нельзя было приравнять к национальному суверенитету, пока английская церковь сохраняла законодательные учреждения и судебную систему, заявлявшие, в пределах своей компетенции, о независимости от государства[45].
Действительно, Англия XV века имела утвердившуюся политическую теорию: королевством управлял монарх, который был верховным законодателем, но не мог сам ни устанавливать законы, ни взимать налоги со своих подданных без согласования с парламентом[46]. Однако англо-папский Авраншский компромисс (1172) закрепил за церковью право на саморегулирование и юрисдикционную самостоятельность конвокаций в Кентербери и Йорке, а также церковных судов, записанные в водной статье Великой хартии вольностей. Король Иоанн обеспечил «нам и нашим наследникам навечно, что Английская церковь будет независимой, ее права сохранятся полностью, и привилегии не пострадают». Короли много раз подтверждали это соглашение. Политики вступили в игру, когда церковная судебная практика затронула гражданские права королевской власти и светских лиц: парламент блокировал папские постановления и спорные декреты в годы правления Эдуарда III, Ричарда II, Генриха IV и Генриха V. Тем не менее громкие дела не превращались в действующее право, а общественное мнение по большей части было за сохранение статус-кво и против радикального изменения. Как сетовал Уиклиф, возражения против перемен не кончались: говорили, что изменение вызовет беспорядки; что даже в этом случае успех не гарантирован; что не пришло время; что не сложились условия. Он наталкивался на «обычные ответы чиновников любому реформатору, который хочет изменить положение вещей, причем без промедления»[47]. Джон Гонт считал, что подвергнуть риску стабильность королевства хуже, чем лишить девственности королевскую дочь. Таким образом, установленная юридическая структура, в которой параллельные правомочия церкви и государства сосуществовали и подчинялись соответственно папе и королю, подтверждает, что понимание Англии как унитарного государства было анахронизмом до 1530-х годов. Однако вопрос, равнялся ли сам по себе разрыв Генриха VIII с Римом созданию единого государства, потребует изучения.
2
Ситуация в стране
Англия и Уэльс были преимущественно аграрными государствами, которые после 1520 года постоянно испытывали давление избыточной численности населения. Возросший спрос на продукцию, стимулировавший развитие капиталистического сельского хозяйства и более прибыльной индустриальной экономики, открывал очевидные возможности, однако резкий рост населения неизбежно вел к инфляции, спекуляции землей и продовольствием, безработице, нищете, бродяжничеству и грязи в городах. Мощь государства была ничтожна перед лицом демографических, экономических и социальных перемен, но мы можем сравнительно оптимистично рассматривать этот период по одной важнейшей причине – несмотря на несколько региональных кризисов, тюдоровской Англии удалось себя прокормить. Крупной национальной продовольственной катастрофы страна избежала.
Да, после неурожаев 1519–1521, 1527–1529, 1544–1545, 1549–1551, 1554–1556, 1586–1587 и 1594–1597 годов смертность повысилась. Самые страшные неурожаи были в 1555–1556 и 1596–1597 годах. Поскольку воздействие неурожая в каждый конкретный год ощущалось до сбора следующего хорошего или среднего урожая, самая высокая смертность фиксировалась в 1555–1557 и 1596–1598 годах. Первый период был особенно суров, поскольку он совпал с эпидемией гриппа, которая началась в 1555-м и достигла пика в 1557–1559 годах. Затем, когда урожаи 1596 и 1597 годов погибли от дождей, самый страшный голод за столетие ударил по горным районам и долинам со смешанным земледелием, где шли особенно сильные дожди. Однако север Мидлендса, Эссекс и юго-запад страны погодные аномалии 1557–1559 годов практически не задели, а в 1596–1598 годах от голода пострадало относительно незначительное количество районов Восточной Англии и Центрального Мидлендса плюс несколько на юго-востоке[48].
Кроме неурожаев, минимум раз в десятилетие краткосрочные кризисы вызывали бубонная чума, пневмония, оспа и вирусное заболевание, называемое «потницей». Однако после опустошения страны, произошедшего в результате черной смерти, эпидемии чумы в некотором роде сделались локальными, о чем говорит тот факт, что крупные вспышки болезни в Девоне в 1546–1547 и 1589–1593 годах, а также в Стаффорде в 1593 году не перекинулись на соседние регионы. В 1520-е и 1590-е годы крупнейшие эпидемии, похоже, ограничивались Лондоном. Конечно, в тот или иной раз на большинстве территорий чума или грипп уносили 10 % (и более) населения. Однако главными центрами эпидемий чумы были Лондон, дельта Темзы и примыкающие районы Колчестера, Ипсвича и Нориджа. Эти наиболее густонаселенные районы были особенно уязвимы, поскольку отходы животноводства в дренажных канавах и текущие по улицам человеческие испражнения привлекали крыс и мух. Таким образом, тогда как смертность вследствие неурожая тяжелее била по нагорьям, где зерновые выращивались в рискованных условиях и где зерно приходилось покупать, эти же регионы обычно не затрагивались чумой вследствие их изолированности. И напротив, если голод щадил многие районы на юго-востоке и в Восточной Англии, которые имели местные продовольственные ресурсы и удобный доступ к импортному зерну из-за границы, то грязные города, низины с многоотраслевым животноводством и районы с хорошими дорогами больше других страдали от чумы[49].
Таким образом, хотя голод и болезни принесли опустошение в затронутые районы, особенно в города 1590-х годов, массовой гибели людей в масштабах страны, как в XIV веке, не случилось даже во время эпидемии гриппа 1555–1559 годов. Действительно, вдобавок к другим трудностям режим Марии I столкнулся с самой высокой смертностью со времен черной смерти: численность населения снизилась на 200 000 человек, или на 6 %. Однако, поскольку некоторые районы страны были задеты незначительно, не подтверждается предположение, что эта ситуация явилась национальным кризисом с точки зрения ее географического распространения. Кроме того, прирост населения прекратился лишь на время. В самом деле, хронология, интенсивность и ограниченность пространства, на котором царил голод в XVI веке, говорят о том, что нехватка продовольствия в Англии со временем скорее уменьшалась, чем усугублялась, а эпидемии забирали меньше людей, чем раньше, в пропорции к росту численности населения. В сельской местности не было кризисов на протяжении двух третей правления Елизаветы, и сельское население оставалось избыточным. Когда в городах смертность превосходила рождаемость, этого избытка было достаточно и чтобы увеличить количество остающихся на земле, и чтобы компенсировать городские потери за счет миграции в города.
Вопрос дискуссионный, но есть масса доводов за то, что Англия при Тюдорах была экономически более устойчивой, более обширной и более уверенной, чем в любой другой период со времен римского завоевания Британии. Восстановление численности населения после опустошений черной смертью происходило медленно – медленнее, чем во Франции, Германии, Швейцарии и некоторых итальянских городах. Процесс экономического оживления в доиндустриальных обществах в первую очередь зависел от народонаселения, и тут нам помогут цифры. До голода 1315–1317 годов и черной смерти (1348–1349) население Англии и Уэльса насчитывало от четырех до пяти миллионов человек, возможно, даже от пяти с половиной до шести миллионов, но к 1377 году последующие бедствия сократили его до двух с половиной миллионов. К 1450 году произошло дальнейшее снижение до двух миллионов, но на этом уровне численность населения стабилизировалась, а к концу столетия начался постепенный рост. Тем не менее в 1525 году численность в Англии (без Уэльса) все-таки не превысила 2,26 миллиона. К тому же на первых порах рост народонаселения был медленным, прерывистым и, возможно, ограничивался только определенными районами. Лишь в 1520 году рост ускорился, а после 1525 года стал стремительным (см. таблицу 1). С 1525 по 1541 год население Англии росло очень быстро – впечатляющий взрыв после долгого затишья. С 1541 года темп роста несколько ослабел, но население по-прежнему продолжало увеличиваться, только в конце 1550-х годов этот процесс прекратился, и в 1601 году численность населения составила 4,10 миллиона человек. Кроме того, население Уэльса выросло примерно с 210 000 человек в 1500 году до 380 000 в 1603-м.
Таблица 1. Численность населения Англии, 1525–1601 годы

Источник: E. A. Wrigley and R. S. Schofield. The Population History of England, 1541–1871: A Reconstruction (London, 1981), 531–532, 568
Эти изменения стали результатом сложного процесса. Медленный прирост населения в XV веке частично был обусловлен болезнями и в городах, и в сельской местности. Однако играли свою роль два еще более важных фактора – низкая рождаемость и ограничение роста семьи вследствие позднего брака. Похоже, что многие пары откладывали свадьбу, пока им не исполнится минимум 25 лет, тогда как во времена подушного налога 1377 года женщины обычно выходили замуж в 15–19 лет. Сокращение населения до 1500 года, таким образом, обусловливалось низкой рождаемостью и высокой смертностью: анализ завещаний показал, что в период 1430–1480 годов 24,2 % мужчин умирали холостыми, а 49 % тех, кто все-таки женился, умирали, не имея наследника мужского пола[50]. Однако такие обстоятельства создавали видимость процветания: арендная плата за землю снизилась, поскольку арендаторов стало меньше, а лорды отказывались от самостоятельного возделывания своей земли, отдавая ее арендаторам на благоприятных условиях. Также снизилась рента и на традиционные крестьянские держания, отработочные повинности заменили, а вилланство (личная зависимость) к 1500 году сохранилось лишь в некоторых районах Восточной Англии. После 1349 года в ответ на сокращение рабочей силы выросла заработная плата в денежном выражении, а цены на продовольствие упали из-за снижения спроса на рынке. Возможно, это процветание вызвало увеличение рождаемости, а может быть, стимулом стало понижение брачного возраста. Похоже, что к 1480-м годам в брак стала вступать более значительная часть населения, что, должно быть, способствовало повышению уровня рождаемости. Несмотря на плохие урожаи в 1519–1521, 1527–1529 и 1544–1545 годах, рождаемость была высокой в 1550 году, на этот год имеются свидетельства приходских книг. Демографы также рассчитали, что ожидаемая средняя продолжительность жизни после 1564 года была выше, чем раньше, хотя она колебалась с 41,7 года в 1581 году до 35,5 – в 1591-м. Действительно, с 1564 до 1586 года смертность была ниже того уровня, на который она снова поднимется в конце Наполеоновских войн: ожидаемая продолжительность жизни равнялась примерно тридцати восьми годам. Хотя не следует забывать, что многие дети умирали в младенчестве, некоторые люди доживали до 50 лет, а кто-то и до 90, основная часть правления Елизаветы прошла без кризисов: годовой уровень смертности никогда не превышал 2,68 % населения[51]. Ускорение роста населения, таким образом, было вполне возможно: повышение рождаемости после 1500 года дополнялось постепенным снижением смертности.
Однако территориально население распределялось неравномерно, поскольку в условиях аграрной экономики люди жили в основном там, где земля могла их прокормить. При Тюдорах 90 % населения проживало в сельской местности, остальные – в городах, но три четверти обитали к югу и востоку от линии, которую можно провести от реки Северн до Хамбера. Хотя немногие фермеры были полностью самодостаточны и все больше людей пользовались рынками для продажи или обмена излишков сельскохозяйственной продукции, каждому региону или району приходилось иметь собственные основные средства существования: некоторые занимались и земледелием, и животноводством, и лесным хозяйством. Чему район будет уделять основное внимание, зависело от климата, почвы и склона, но в юго-восточной части страны главным образом находились основные регионы земледелия, смешанного хозяйства и сельскохозяйственного производства. В северных графствах были ограниченные земледельческие районы, но там и в Уэльсе, а также в Девоншире и Корнуолле далеко на юго-западе располагались обширные свободные пастбища, болота и горы, а поселения встречались редко. Удобную разделительную линию можно провести между Тизмутом и Уэйтмутом: она отделяет более густонаселенные южные и восточные графства, где превалировало возделывание зерновых и содержание домашнего скота, от пастушеских регионов к северу и западу, где разводили овец, лошадей и крупный рогатый скот. Есть и очевидные исключения из общего правила: богатые пастбища Болотного края (в графствах Кембриджшир, Линкольншир и Норфолк) и лесные пастбища Кента и Сассекс-Вилда были скотоводческими анклавами на юго-востоке, а в районах смешанного хозяйства Херефордшира и в приграничной полосе с Уэльсом выращивали зерновые на северо-западе.
Кроме Лондона, самыми крупными городами были Норидж, Бристоль, Эксетер, Йорк, Ковентри, Солсбери и Кингс-Линн, однако ко времени правления Генриха VIII население ни одного из них не превышало 12 000 человек, за исключением Лондона, который, по всей видимости, был домом для 60 000 жителей. Население Нориджа насчитывало 12 000 человек, Бристоля – 10 000, Эксетера, Йорка и Солсбери – 8000, Ковентри – 7500, а Кингс-Линна – 4500. Население маленьких городков, таких как Оксфорд, Кембридж, Ипсвич, Кентербери, Колчестер и Ярмут, составляло от 2600 до 5000 человек, а остальных и того меньше: в Шеффилде жило 2200 человек, в Стаффорде – 1550 даже в 1620 году. В отличие от городов континентальной Европы ни в одном из провинциальных городов периода Тюдоров население не превышало 20 000 человек, в Норидже, правда, было 18 000 жителей до эпидемии 1579 года. Примерно 10 % населения в те времена проживало в городах, но половина этого количества всегда приходилась на Лондон. Эти пропорции сохранялись в течение всего XVI века: численность населения Лондона выросла до 215 000 к 1603 году, и общее количество жителей провинциальных городов примерно соответствовало тому. В конце правления Елизаветы в Норидже было 15 000 жителей, в Бристоле – 12 000, в Йорке – 11 500, в Эксетере и Ньюкасле-апон-Тайн по 9000 в каждом, в Кингс-Линне, Ковентри, Солсбери, Плимуте, Оксфорде, Кембридже, Ипсвиче, Кентербери, Колчестере, Ярмуте, Шрусбери, Вустере и Честере от 5000 до 8500. Однако в течение XVI века существовала значительная разница в темпах роста провинциальных городов: устойчивый рост показывали признанные центры или места, где наблюдалось самое быстрое экономическое развитие, – например, Норидж, Йорк, Ньюкасл-апон-Тайн, Кингс-Линн и Ярмут.
Изменение численности населения повысило спрос на сельскохозяйственные продукты, соответственно росли и цены. Этот процесс усугубили краткосрочные кризисы 1555–1559 и 1596–1598 годов (см. таблицу 2). В период после 1520–1529 годов выросли цены в целом и на зерновые в сравнении с ценами на шерсть.
Таблица 2. Индекс цен на сельскохозяйственную продукцию, 1480–1609 (1450–1499 = 100)

Источник: The Agrarian History of England and Wales, iv. 1500–1640 / Ed. J. Thirsk. Cambridge, 1967. P. 861–862
Цены на продукты животноводства в целом (молоко и сливки, масло, сыр, яйца, шерсть, овчину, кожу и т. д.) росли быстрее, чем на шерсть, но не так быстро, как на пшеницу, ячмень, овес и рожь. С 1450 по 1520 год цены на шерсть были сопоставимы с ценами на зерновые. Это свидетельствовало об отсутствии демографического давления и интенсивности экспорта тканей; более низкие цены на зерно, по всей вероятности, также повышали покупательную способность отечественных потребителей, таким образом поддерживая внутренний спрос на текстиль. Однако рост численности населения принес два больших изменения. Во-первых, он породил подъем спроса на зерновые, что дало фермерам, способным производить излишки для рынка, возможность получать солидные прибыли. Во-вторых, производство шерсти утратило часть своей привлекательности, поскольку возросший спрос на говядину и баранину со стороны более состоятельных домохозяйств сделал производство мяса более выгодным использованием пастбищ.
Коммерциализацию сельского хозяйства не следует преувеличивать[52]. Состояние рынка после 1520 года предоставило умелым фермерам возможность перейти к капитализму, поскольку внутренний и морской транспорт позволял доставлять продовольствие в городские центры. Спрос в Лондоне и наиболее крупных провинциальных городах стал мощным магнитом, однако темп перемен не отличался стремительностью. Производительность сельского труда была невысокой, а урожайность низкой. Не хватало земли для зерновых культур, товарные производители и фермеры-крестьяне конкурировали за то, как использовать новые пастбища и пашни. То и дело возникал антагонизм между секторами земледелия и животноводства. Хотя оба, по существу, дополняли друг друга, поскольку навоз требовался при производстве зерновых, чтобы не истощать почву, многие пастбища для овец фактически поставляли сукно, чтобы оплачивать импорт предметов роскоши для богатых, а не обеспечивали запасы продовольствия. Памфлетисты утверждали, что овцеводы ответственны за снижение уровня жизни, которое неожиданно ощутило большинство народа. Конечно, влияние неожиданного крещендо в спросе на продовольствие и давления на доступные ресурсы после 1520 года было столь же болезненным, сколь, возможно, и полезным в качестве экономического стимула. Земельный голод вел к повышению арендной платы, особенно для новых арендаторов. На юге в период с 1510 года до гражданской войны арендная плата выросла в 10 раз. В Мидлендсе с 1540 по 1585 год плата за луга увеличилась в четыре раза, а на пахотную землю даже больше. Только на севере повышение было менее заметным, в районах, где традиционное право позволило арендаторам отбить попытки землевладельцев поднять свои доходы. Вероятно, повышение арендной платы было самым значительным в тех местах, где землевладельцы объединяли два прилегающих участка ради прибыли за счет уходящих арендаторов. Этот процесс осудил и парламент, и проповедники как главную причину депопуляции в сельской местности; когда общинные земли огораживались, и пустоши возвращали себе лендлорды или захватывали скваттеры, права крестьян на выпас зачастую тоже аннулировались. Убеждение памфлетистов и проповедников, что оживленный рынок земли вскармливает новый предпринимательский класс капиталистов, омрачая лица бедных, – преувеличение. Тем не менее следует сказать, что не все землевладельцы, претенденты и скваттеры были абсолютно порядочны в своих подходах, в результате чего притеснялись многие законные владельцы.