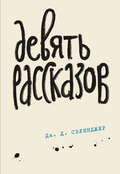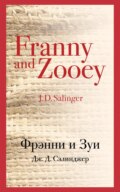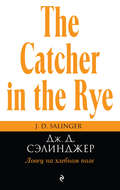Дж. Д. Сэлинджер
Дж. Д. Сэлинджер
– Так с кем ты сейчас ходишь? – спрашиваю. – Не хочешь мне поведать?
– Ты не знаешь.
– Да, но с кем? Я могу знать.
– Девка в Виллидже тут живет. Скульпторша. Если настаиваешь.
– Да? Без балды? И сколько ей?
– Бога ради, я ее не спрашивал никогда.
– Ну хотя бы примерно?
– Я бы прикинул, где-то под сорок, – говорит этот Люс.
– Под сорок? Да ну? Тебе такое в жилу? – спрашиваю. – Тебе такие старухи нравятся? – Я почему спрашивал – потому что он ничего так шарил в сексе и всяко-разно. Один из немногих, про которых я точняк знал: этот – шарит. Ему целку сломали в четырнадцать, в Нантакете. По-честному.
– Мне нравится женщина зрелая, если ты об этом. Разумеется.
– Правда? А почему? Без шуток, их, что ли, приходовать лучше и всяко-разно?
– Слушай. Давай уговоримся раз и навсегда. Я сегодня отказываюсь отвечать на любые типично колфилдовские вопросы. Когда ж ты наконец повзрослеешь, а?
Я сколько-то вообще ничего ему не говорил. Ну нафиг. Потом этот Люс заказал себе еще мартини и сказал бармену, чтоб сделал гораздо суше.
– Слышь. А ты с ней сколько уже ходишь, с этой своей скульпторшей? – спрашиваю. Мне по правде интересно было. – Ты с ней в Вутоне познакомился?
– Едва ли. Она только несколько месяцев назад в страну приехала.
– Правда? А она откуда?
– Случилось так, что из Шанхая.
– Да ну? Китаянка, что ли, ёксель-моксель?
– Очевидно.
– Да ну? И тебе в струю? Что она китаянка?
– Очевидно.
– Почему? Мне интересно – по-честному интересно.
– Я просто нахожу восточную философию удовлетворительнее западной. Раз ты спрашиваешь.
– Правда, что ли? А ты в каком смысле – «философию»? Побарахтаться и всяко-разно? В смысле, в Китае с этим получше? Ты в этом смысле?
– Не обязательно в Китае, господи ты боже. На Востоке, я сказал. Нам надо этот пустой разговор продолжать?
– Слышь, без балды, – говорю. – Кроме шуток. Почему с этим на Востоке лучше?
– В это слишком сложно вдаваться, господи боже мой, – говорит этот Люс. – Они попросту считают секс переживанием как физическим, так и духовным. Если ты думаешь, будто я…
– Так и я тоже! Я ж тоже его считаю, как ты его там, физическим и духовным переживанием и всяко-разно. По-честному. Но там все зависит от того, с кем, нахер, я это делаю. Если с кем-то, кого я даже не…
– Бога ради, Колфилд, не так громко. Если не можешь голосом управлять, давай оставим эту…
– Ладно, только слышь? – Меня распирало, и я точняк громковато орал. Иногда у меня с этим перебор, если меня распирает. – Я вот в каком смысле, – говорю. – Понятно, что это и физическое, и духовное, и художественное, и всяко-разно. Но я вот чего: ты ж не можешь так со всеми – с каждой девкой, которую зажимаешь и всяко-разно, – и чтоб вот так вот все выходило. Или можешь?
– Давай оставим, – говорит этот Люс. – Ты не против?
– Ладно, только слушай. Возьмем тебя и эту твою китаянку. Что у вас двоих так зашибись?
– Я сказал – оставим.
Я настырный, в душу полез. Это я понимаю. Только вот какая фигня в Люсе достает. Когда мы ходили в Вутон, он тебя заставлял излагать все самое личное, что с тобой творилось, а если ему начнешь вопросы задавать про него – злится. Этим интелям не в жилу с тобой по-умному разговаривать, если они сами базаром не заправляют. Им всегда лучше, чтоб ты заткнулся, если сами затыкаются, и валил к себе в комнату, если они валят к себе. Когда я ходил в Вутон, этот Люс терпеть не мог – это по-честному видать было, – когда закончит про пежиловку с нами трындеть у себя в комнате, чтоб мы еще сидели сколько-то и по ушам друг другу ездили. В смысле – мы с другими парнями. Не у себя в комнате. Этот Люс такое просто ненавидел. Ему вечно подавай, чтобы все по своим комнатам расходились и затыкались, когда он закончит всю из себя шишку изображать. Он же какой фигни боялся – что кто-нибудь вдруг ляпнет чего поумней его. С него и впрямь уржаться.
– Я, может, в Китай поеду. Паршиво у меня с половой жизнью, – говорю.
– Естественно. У тебя разум не развит.
– Точняк. По-честному. Сам знаю, – говорю. – Знаешь, какая у меня засада? Меня никогда по-честному не заводит – в смысле, совсем по-честному – с той девкой, которая не слишком в жилу. В смысле, мне она сильно в жилу должна быть. А если нет, у меня к ней как бы никакого, нафиг, желания и всяко-разно. Ух, из-за этого у меня половая жизнь совсем невпротык. Говно у меня, а не половая жизнь.
– Господи боже – ну, естественно, говно. Я ж тебе в последний раз говорил, что тебе нужно?
– В смысле – к мозгоправу сходить и всяко-разно? – спрашиваю. Это он мне в последнюю встречу говорил. Штрик у него психоаналитик и всяко-разно.
– Тебе решать, боже ты мой. Меня, нафиг, не касается, что ты там делать будешь со своей жизнью.
Я сколько-то вообще ничего не говорил. Я думал.
– Допустим, я пойду к твоему предку и дам ему себя пропсихоанализировать и всяко-разно, – потом говорю. – И что он мне сделает? В смысле – что он мне сделает?
– Ни фига он тебе не сделает. Просто поговорит с тобой, а ты поговоришь с ним, господи ты боже. Во-первых, он тебе поможет распознать паттерны твоего рассудка.
– Чего?
– Паттерны твоего рассудка. Рассудок твой работает… Слушай. Я тебе тут вводный курс психоанализа читать не собираюсь. Если интересно, позвони ему и назначьте встречу. Если нет – не звони. Мне, честно говоря, наплевать.
Я положил руку ему на плечо. Ух, как с него уржаться можно.
– Ты, гад, настоящий друг, – говорю. – Знаешь, да?
А он уже на часы глядел.
– Надо рвать, – говорит и тут же встает. – Приятно было тебя увидеть. – Подозвал бармена и велел счет принести.
– Эй, – говорю, пока он еще не свалил. – А твой предок тебя вообще психоанализировал?
– Меня? А что?
– Ничего. Но да или нет? Да?
– Не вполне. Он помог мне до некоторой степени приспособиться, но всесторонний анализ оказался излишним. А что?
– Ничего. Просто спросил.
– Ну что. Ладно, будь, – говорит. Оставил чаевые и всяко-разно и двинул к выходу.
– Ты б еще выпил, а? – говорю. – Пожалуйста. Мне одиноко, как не знаю что. Без балды.
А он сказал, что не может. Поздно уже, говорит, а потом ушел.
Люс такой. Сплошной геморрой, хотя словарный запас что надо. Больше, чем у всех пацанов в Вутоне, когда я туда ходил. Нам тест устраивали.
20
Я остался там сидеть и надираться, и ждать, когда вылезут эти Жанин с Тиной и свою фигню станут исполнять, только их там не было. Зато вылез гомиковатый такой типус с завитыми волосами и сел играть на пианино, а потом у них вышла эта новая девка, Валенсия, и запела. Ни фига хорошего, но всяко лучше Тины с Жанин, и по крайней мере неслабые песни пела. Пианино стояло возле самого бара, где я сидел и всяко-разно, и эта Валенсия стояла прямо у меня, считай, над душой. Я вроде стал на нее, как водится, косяка давить, а она делала вид, что ни фига даже не замечает. Я б, может, и не стал, только я уже нажрался, как не знаю что. Она допела и отвалила так быстро, что я даже не успел пригласить ее бухнуть со мной, поэтому я подозвал старшего официанта. Говорю, спросите у этой Валенсии, не хочет ли она со мной выпить. Он сказал, что спросит, а сам, наверно, ей даже не передал ни фига. Народ никогда ни шиша от тебя никому не передает.
Ух, я сидел в этом, нафиг, баре где-то до часу ночи и набубенивался, как просто гад последний. У меня уже глазки в кучку были. Я только чего старался – я, прямо как не знаю что, старался ни буянить, ничего. Не в струю, чтоб меня кто-нибудь заметил или как-то, или стал спрашивать, сколько мне лет. Только ух, глазки у меня точняк в кучку были. Когда я по-честному нажрался, я опять эту дурацкую фигню завел – ну, с пулей в брюхе. Я, с понтом, в баре один такой, с пулей в брюхе. Совал руку себе под куртку, живот щупал и всяко-разно, чтоб кровищей все вокруг не залить. Не в струю же, если они врубятся, что я вообще ранен. Я скрывал тот факт, что я – падла раненая. Наконец мне чего показалось – а нехило бы этой Джейн брякнуть, проверить, дома или нет. Поэтому я расплатился и всяко-разно. Потом вылез из бара и двинул туда, где автоматы. А руку под курткой все держал, чтоб кровища не хлестала. Ух, вот я нажрался.
Только я когда в будку залез, мне уже не очень в струю было этой Джейн звякать. Наверно, перебор нажрался. Поэтому я чего – я брякнул этой Сэлли Хейз.
Наверно, двадцать номеров перетыкал, пока правильно не набрал. Ух, вот я совсем ослеп.
– Алло, – говорю, когда кто-то, нафиг, трубку снял. Я вроде как даже заорал, так нажрался.
– Кто это? – спрашивает такой ледяной дамский голос.
– Эт я. Холден Колфилд. Мона Сэлли, пжалста?
– Сэлли спит. Я ее бабушка. Почему вы в такой час звоните, Холден? Вы знаете, сколько сейчас времени?
– Ну. Надо с Сэлли погрить. Оч важно. Давайте ее сюда.
– Сэлли спит, молодой человек. Позвоните ей завтра. Доброй ночи.
– Так разубдите! Разубдите ей, а? Во умница.
Затем возник другой голос.
– Холден, это я. – Тут уже эта Сэлли. – Что такое?
– Сэлли? Эт ты?
– Да – и хватит орать. Ты пьян?
– Ну. Ссушь. Ссушь, а? Я приду на Рожжесво. Лана? Елку те украшать. Лана? Лана, а, Сэлли?
– Да. Ты пьян. Ложись уже спать. Ты где? Ты с кем?
– Сэлли? Я приду те елку украшать, лана? Лана, а?
– Ладно. Ложись спать. Ты где? С тобой кто-то есть?
– Никто. Я, я сам и опять я. – Ух как же я нажрался! И по-прежнему щупал брюхо. – Мя подбили. Банда Булыжника мя подстрелила. Знашь, да? Сэлли, знашь или не?
– Я тебя не слышу. Ложись спать. Мне пора. Позвони мне завтра.
– Эй, Сэлли! Хочшь, шшоб я те елку украшал? Хочшь? А?
– Да. Спокойной ночи. Иди домой и ложись спать.
И она повесила трубку.
– Спок’чи. Спокочи, Сэлли, рыбка. Сэлли милая любимая, – говорю. Можете себе вообразить, как я нарезался? Я потом тоже повесил. Она ж, наверно, со свиданки только пришла. Я прикинул, как она там с Лунтами где-то и всяко-разно, и с этим туполомом эндоверским. И все они плавают кругами по чайнику, нафиг, с чаем, и вжевывают друг другу что-нибудь хитровывернутое, и все с таким шармом, и все такое фуфло. Господи, вот не надо же было ей звонить. Когда я нажираюсь, я совсем съезжаю с катушек.
Я поторчал в будке еще сколько-то. Вроде как держался за телефон, чтоб не вырубиться. Сказать вам правду, мне было не сильно восхитительно. Только в конце концов я оттуда вышел и двинул в сортир, шатаясь, как последний дебил, а там налил холодной воды в раковину. И макнул туда голову – по самые уши. Не стал даже ни вытирать, ничего. Пусть эта падла капает. Затем подошел к батарее у окна и на нее сел. Там было нормально и тепло. Очень в струю, потому что я весь дрожал, гадство. Смешная фигня – меня всегда трясет, как не знаю что, если я надираюсь.
Делать больше было не фиг, поэтому я стал и дальше сидеть на батарее и считать белые квадратики на полу. Отмокал потихоньку. У меня по шее лился где-то, наверно, галлон воды за воротник, по галстуку и всяко-разно, только мне было надристать. Я слишком нажрался, а то б не надристать было. Потом, совсем немного погодя, зашел расчесать свои златые кудри тот типус, который Валенсии на пианино подыгрывал, такой завитой весь, гомик на вид. Мы с ним как бы разговорились, пока он причесывался, вот только он оказался не слишком, нафиг, дружелюбный.
– Эй? Вы эту малышку Валенсию увидите, когда в бар вернетесь? – спрашиваю.
– В высшей степени вероятно, – говорит. Остряк-самоучка. Что-то мне сплошь остряки попадаются.
– Слышьте? А передайте ей мои комплименты. Спросите, этот, нафиг, халдей от меня что-нибудь передавал, а?
– А чего б тебе домой не пойти, землячок? Тебе вообще сколько лет?
– Восемсят шесть. Слышьте. Передайте ей мои комплименты. Лана?
– Земляк, иди домой, а?
– Это не про меня. Ух, а вы зашибись, нафиг, на этом пианино играете, – говорю. Это я ему просто польстил. Говняно он на пианино играл, сказать вам правду. – Вам по радио выступать надо, – говорю. – Такому симпотному. С этими, нафиг, золотыми кудряшками. Вам нужен импресарио?
– Иди домой, земеля, будь умницей. Иди домой и проспись.
– Некуда идти. Кроме шуток – вам импресарио нужен?
Он не ответил. Просто взял и вышел. Закончил уже перья себе чистить, приглаживать там и всяко-разно – и ушел. Как Стрэдлейтер. Все эти красавчики одинаковые. Как только, нафиг, допричесываются, так берут и отваливают.
Когда я наконец слез с батареи и вышел в гардероб, я просто ревел и всяко-разно. Не знаю почему, но вот поди ж ты. Наверно, потому, что одиноко и так тоской прибило. А потом я дошел до гардероба – и не смог, нафиг, номерок найти. Хотя гардеробщица очень нормально к этому отнеслась. Куртку мне все равно отдала. И пластинку про «Малютку Ширли Бинз» – та у меня никуда не делась и всяко-разно. Я гардеробщице дал зеленый за то, что она такая нормальная, только она не взяла. Все твердила мне, чтоб шел домой и проспался. Я вроде как попробовал свиданку ей назначить, когда она закончит работу, а она не захотела. Говорит, она мне в матери годится и всяко-разно. А я ей седину свою, нафиг, показал и говорю: мне сорок два, – я, само собой, просто дурака валял. Но она все равно нормальная. Я показал ей свой, нафиг, красный охотничий кепарь, и ей понравилось. Заставила меня его надеть перед выходом, потому что у меня башка еще мокрая была. Путёвая такая тетка.
Я наружу вышел – так будто и не бухал вообще, но там опять холодрыга, и у меня зубы застучали, как не знаю что. Никак успокоить их не мог. Я допер до Мэдисон-авеню и стал ждать автобуса, потому что грошей у меня почти не осталось и на моторах и всяко-разно уже надо было экономить. Только, нафиг, в автобус садиться мне было совсем не в струю. А кроме того, я даже не шарил, куда же мне ехать. Поэтому я чего – я двинул к парку. Прикинул, дойду до того прудика и погляжу, чем там утки маются, – там они вообще или нет. Я ж по-прежнему не в курсе был, там они или нет. До парка недалеко, да и двигать мне особо некуда было – я пока даже не шарил, где ночевать стану, вот и пошел. Я ни устал, ничего. Мне просто было тоскливо, как я не знаю что.
А как только я в парк зашел, такая херня кошмарная случилась. Я уронил пластинку Фиби. И пластинка эта разлетелась кусков на полста. Она была в здоровом таком конверте и всяко-разно, только все равно разбилась. Я, нахер, чуть не заревел, так херово мне стало, но потом я чего – я вытащил осколки из конверта и сложил в карман. Ни к чему их уже не приспособить, но и выкидывать не в жилу. А потом пошел в парк. Ух какая же темень там стояла.
Я всю жизнь в Нью-Йорке прожил и Центральный парк как свои пять пальцев знаю, потому что все время ходил туда кататься на роликах и на велике гонять, когда был мелкий, но пруд этот ночью искать – та еще засада оказалась. Нет, я знал, где он – рядом с Южной Сентрал-Парк и всяко-разно, – только все равно не мог найти. Наверно, больше нажрался, чем думал. Я все ходил и ходил, а вокруг все темней и темней, все жутче и жутче. Пока в парке был, я вообще никого не видал. Ну и нормально. Может, если б встретил, так на целую милю бы подпрыгнул. Потом наконец нашел. А там чего – пруд этот где замерз, а где нет. И уток никаких я не увидел. Обошел вокруг этого, нафиг, пруда – один раз чуть было, нафиг, даже не занырнул в него, – только ни одной утки не увидал. Подумал, может, если они тут и есть, так спят или как-то у самого берега, где трава и всяко-разно. Так я, в общем, чуть и не занырнул. Только никого не нашел все равно.
Наконец я сел на эту скамейку, где не было, нафиг, такой темени. Ух как меня трясло, гадство, и в волосах на затылке, хоть я и в кепаре сидел, вроде как ледышек таких полно. Меня тут заколотило. Ну, думаю, воспаление легких подхвачу и сдохну. И давай прикидывать, как мильоны туполомов ко мне на похороны придут и всяко-разно. Дед из Детройта, который все номера улиц выкрикивает, когда с ним едешь, нафиг, в автобусе, и тетки мои – у меня штук полста теток, – и все эти паршивые двоюродные. Там же вся банда соберется. Они приперлись, когда Олли помер, вся эта, нафиг, дурацкая кодла. У меня есть одна дура-тетка, у нее изо рта воняет, так она все твердила, как мирно он лежит, мне Д. Б. потом рассказывал. Меня там не было. Я еще был в больнице. Мне пришлось в больницу лечь и всяко-разно, когда я себе поранил руку. В общем, меня все еще колотило насчет воспаления легких, со всеми этими ледышками в волосах, и насчет того, что я возьму и сдохну. Мне предков жалко было, как не знаю что. Особенно штруню, потому что она после Олли еще не оправилась. Я все прикидывался, как она не знает, что делать со всеми моими костюмами и спортивными прибамбасами и всяко-разно. Одно хорошо – я знал, что Фиби она ко мне на похороны, нафиг, не пустит, потому что Фиби совсем еще малявка. Вот это одно только хорошо и было. А потом я подумал, как вся эта кодла меня в могилу на кладбище, нафиг, сует и всяко-разно, с моим именем на памятнике и всяко-разно. Жмурики со всех сторон. Ух, вот подохнешь – тут-то тебя и оприходуют. Надеюсь, нахер, когда я все-таки загнусь, у кого-нибудь мозгов хватит просто вывалить меня в реку или как-то. Что угодно, только бы, нафиг, на кладбище не совали. В воскресенье народ приходит, кладет веники цветочные тебе на пузо, всякая такая херня. Кому нужны цветы, если ты жмурик? Да никому.
Когда погода нормальная, штрики вполне себе часто ходят и цветы втыкают Олли в эту могилу. Я с ними пару раз тоже ездил, но потом бросил. Во-первых, мне совершенно не в жилу видеть его на этом долбанутом кладбище. Среди жмуриков и надгробий, и всяко-разно. Когда солнышко, еще ничего, только дважды – дважды, – когда мы там были, начинался дождь. Жуть. И на его паршивое надгробье лило, и на траву у него на пузе. Везде лило. И все посетители, что кладбище посещали, рванули к своим машинам, как я не знаю что. Я чуть на стенку не полез. Все посетители эти могли позалазить к себе в машины, повключать радио и всяко-разно, а потом поехать в какую-нибудь приятную рыгаловку ужинать – все, кроме Олли. Охереть невыносимо. Я знаю, что там на кладбище только его тело и всяко-разно, а душа у него на Небеси и прочая херня, только все равно перебор. Не надо было ему туда попадать, что ли. Вы его не знали. Если б знали, вы бы поняли, о чем я. Когда солнышко, еще ничего, но солнышко выходит, только если ему в жилу выходить.
Немного погодя, чтоб хоть как-то отвлечься от воспаления легких и всяко-разно, я вытащил гроши и попробовал сосчитать в паршивом свете от фонаря. Осталось у меня всего три по одному, пять четвертаков и никель – ух, я целое состояние спустил после свала из Пенси. И потом я чего – я пошел к озеру и как бы блинчиков по нему напускал четвертаками и никелем, там, где не замерзло. Фиг знает, зачем я так сделал, но сделал. Наверно, прикинул, что так и отвлекусь от воспаления легких и того, что сдохну. А вот фиг там.
Я начал думать, каково будет Фиби, если я подхвачу воспаление легких и сдохну. Детский сад так думать, только я не мог остановиться. Вполне себе фигово ей будет, если какая-нибудь такая херня произойдет. Я ей сильно в струю. В смысле, я ей ничего так нравлюсь. По-честному. В общем, никак из башки я это выгнать не мог, поэтому вот чего я прикинул сделать – я прикинул, что нехило бы пробраться домой и повидаться с ней, на тот случай, если я сдохну или как-то. У меня ключи с собой и всяко-разно, и я вот чего прикинул: заберусь в квартиру, очень тихо и всяко-разно, и мы с Фиби вроде как чутка потрещим. Меня только одно доставало – наружная дверь. Скрипит гадски. Жилой дом у нас нехило старый, а комендант – ленивая скотина, и все у него в доме скрипит и пищит. Вдруг штрики услышат, как я в дом лезу. Но я решил все равно попробовать.
Поэтому я, нахер, вымелся из парка и двинул домой. Всю дорогу пехом. Там недалеко, а я совсем не устал и уже даже не бухой был. Только дубак стоял, да никого ни вокруг, нигде.
21
Подфартило за много лет впервые – когда я добрался домой, обычного лифтера, Пита, в кабине не было. В кабине сидел какой-то новый парень, я его раньше не видел, поэтому я прикинул, что если не врежусь башкой в штриков и всяко-разно, то смогу поздороваться с Фиби, а потом свалить, и никто даже не заметит, что я тут был. Зашибись просто подфартило. А еще лучше то, что новый лифтер был несколько так дурковат. Я ему сказал – как бы между прочим так, – чтоб он поднял меня к Дикстайнам. Дикстайны – у них другая квартира у нас на этаже. Кепарь свой я уже снял, чтоб не отсвечивать или как-то. И в лифт зашел так, будто сильно спешу.
Он все двери лифта закрыл и всяко-разно и уже настроился ехать, а потом поворачивается и говорит:
– А их дома нет. У них вечеринка на четырнадцатом этаже.
– Это ничего, – отвечаю. – Я должен их подождать. Я их племянник.
Он на меня тупо так, с подозрением глядит.
– Вы б тогда лучше, – говорит, – в вестибюле подождали, приятель.
– Это можно бы – честно, можно, – говорю. – Только у меня больная нога. Я должен держать ее в одном положении. Думаю, я лучше посижу на стульчике у них под дверью.
Он не просек, что это я такое несу, нахер, и только и сказал:
– А, – и поднял меня наверх. Неплохо, ух. Умора. Надо только сказать чего-нибудь, чтоб никто не просек, и они все что хочешь тебе сделают.
Я вышел у нас на этаже – сам хромаю гадски просто – и двинулся к Дикстайнам. Потом как услышал, что дверь лифта закрылась, развернулся и пошел на нашу сторону. Нормально у меня получается. Как будто и не бухал вообще. Потом вынул ключ и открыл дверь – очень, очень осторожно и всяко-разно, зашел и дверь закрыл. Надо было в жулики податься.
В прихожей темень, как я не знаю что, само собой, и, само собой, никакого света зажечь я не мог. Надо было аккуратно не влепиться ни во что и не наделать шуму. Но я точняк понял, что я дома. У нас в прихожей уматный такой запах стоит – так больше нигде не воняет. Я вообще не знаю, что это, нахер, такое. Не цветная капуста и не духи – вообще непонятно, что за херня, – но всегда знаешь, что ты дома. Я начал было куртку снимать и вешать в шкаф, только в шкафу полно плечиков, которые гремят как полоумные, если дверцу приоткроешь, поэтому я не стал. Потом я медленно, очень медленно двинул к комнате Фиби. Я знал, что горничная меня не услышит, – у нее только одна перепонка. Ей брат в детстве соломинку в ухо засунул, она мне как-то рассказывала. Нормально так глухая и всяко-разно. А вот предки мои, особенно штруня – у той вообще слух как у, нафиг, гончей. Потому я очень, очень на цыпочках шел мимо их двери. Даже, ёксель-моксель, дышать перестал. Штрика-то можно стулом по башке огреть, и он не проснется, а вот штруня – ей всего-то хватит, чтоб вы в Сибири где-нибудь кашлянули, и она уже вас услышит. Дерганая, как не знаю что. То и дело по ночам не спит, сиги курит.
Наконец где-то через час я добрался до этой комнаты Фиби. Только Фиби там не было. Про это я забыл. Она же всегда в комнате Д. Б. спит, когда тот в Голливуд ездит или еще куда. Ей нравится, потому что самая здоровая комната в доме. А еще там такой безумный древний стол, который Д. Б. купил у какой-то кирюхи в Филадельфии, и такая здоровая гигантская кровать, миль десять в ширину и десять в длину. Где он ее купил, фиг знает. В общем, Фиби в жилу спать в комнате у Д. Б., когда его нет, и он ей разрешает. Вы б видели, как она уроки делает за этим долбанутым столом или как-то. Он такой же здоровый, как кровать. Ее за ним еле видно, когда она там уроки делает. Но вот такое ей как раз в струю. А ее комната ей никак, говорит, потому что слишком маленькая. Говорит, ей нравится разложиться. Сдохнуть можно. Ну чего этой Фиби раскладывать? Ни шиша.
В общем, двинул я к Д. Б. – тихо, как не знаю что, и включил лампу на столе. Фиби такая даже не проснулась. Когда свет загорелся и всяко-разно, я вроде как чутка на нее посмотрел. Лежит там, спит, морденция где-то с краю подушки. И рот раскрыла. Умора. Возьмите взрослых – паршиво они выглядят, когда спят и пасти у них раззявлены, а вот малявки ни фига. Нормально малявки смотрятся. Всю подушку даже обслюнявить могут, а все равно нормально.
Я походил по комнате, очень тихо и всяко-разно, поглядел на всякую фигню. Для разнообразия мне было зашибись. Воспаления легких уже никакого и в помине. Нормально мне было для разнообразия. У Фиби эта одежда на стуле сложена возле кровати. Фиби очень аккуратная для малявки. В смысле – барахло свое не разбрасывает, как другие. Не халда. У нее пиджачок от этого рыжего костюма, который штруня ей в Канаде купила, висел на спинке. А блузка и прочая фигня – на сиденье сложены. Обувка и носочки на полу, прямо под стулом, рядом друг с дружкой. Обувки этой я раньше не видел. Новая. Такие темно-коричневые мокасины, вроде той пары, что у меня, и с костюмчиком роскошно смотрятся, который ей штруня в Канаде купила. Штруня ее нехило одевает. По-честному. У нее зашибись вкус к некоторым штукам. Ни фига не может коньки только покупать или еще чего-то, а с одеждой все очень неслабо. В смысле, на Фиби всегда какое-нибудь платьице бывает, от которого сдохнуть просто можно. Возьмите большинство малявок, даже если у них предки нехило грошей зашибают, – так они какую-нибудь жуть носят. Вы б видели эту Фиби в костюмчике, что ей штруня в Канаде купила. Без балды.
Я сел за этот стол Д. Б. и поглядел, что там. В основном Фибина хренотень, школьная и всяко-разно. Главным образом учебники. Тот, что сверху, назывался «Арифметика – это весело!». Я как бы открыл на первой странице и глянул. Вот чего у Фиби на ней было:
Фиби Уэзерфилд Колфилд 4Б-1
Я чуть не сдох. У нее среднее имя Джозефин, ёксель-моксель, никакое не Уэзерфилд. Только ей оно не в жилу. Всякий раз, когда мы с ней встречаемся, у нее новое среднее имя.
Под арифметикой лежала география, а под географией – упражнения по английскому. С упражнениями у нее все очень неслабо. У нее со всеми предметами неслабо, но с английским вообще нехило. А под упражнениями лежала куча тетрадок. У нее их тыщ пять где-то. Ни у одной малявки столько тетрадок нет. Я открыл верхнюю и глянул на первую страницу. На ней было:
Бернис встретимся на переменке мне тебе нужно сказать что-то очень очень важное.
Больше там ничего не было. На следующей было вот чего:
Почему на юго востоке Аляски так много кансерных фабрик?
Потому что там так много лосося
Почему там ценные леса?
потому что подходит климат.
Что наше правительство сделало чтобы
жизнь эскимосов аляски была легче?
посмотреть на завтра!!!
Фиби Уэзерфилд Колфилд
Фиби Уэзерфилд Колфилд
Фиби Уэзерфилд Колфилд
Фиби У. Колфилд
Фиби Уэзерфилд Колфилд, эск.
Передай пожалуйста Ширли!!!!
Ширли ты говорила что стрилец
но ты просто телец принеси коньки
когда придешь ко мне домой
Я сел там на стол Д. Б. и прочел всю тетрадку. Это недолго, и я такую фигню могу читать – тетрадки какой-нибудь малявки, Фиби или еще чьи, – и днем, и ночью. От их тетрадок сдохнуть можно. Потом я сигу закурил – это у меня была последняя. В тот день я, наверно, пачки три выкурил. А потом я Фиби наконец разбудил. В смысле, я ж не мог сидеть на столе до конца жизни, а кроме того, боялся, что вдруг ни с того ни с сего налетят штрики, а мне хотелось по крайней мере с ней поздороваться, пока не ворвались. Потому и разбудил.
Она легко просыпается. В смысле, на нее не надо ни орать, ничего. Только сесть на кровать и сказать: «Просыпайся, Фиб», – и бац, она уже проснулась.
– Холден! – сразу же говорит. Облапила меня руками за шею и всяко-разно. Очень мамсится. В смысле – для малявки вполне себе нежная такая. Иногда даже слишком. Я вроде как ее чмокнул, а она говорит: – Ты када приехал? – Рада мне, как не знаю что. Сразу видать.
– Не так громко. Только что. Ты вообще как?
– Я отлично. Ты получил мое письмо? Я написала на пяти листах тебе…
– Ага – не так громко. Спасибо.
Она мне это письмо написала. Только я на него ответить не успел. Сплошняком про ту постановку, где она в школе играла. Сказала, чтоб я никаких свиданок, ничего на пятницу не назначал, а пришел смотреть.
– Как постановка? – спрашиваю. – Как, говоришь, называется?
– «Рождественский спектакль для американцев». Он паршивый, только я там Бенедикт Арнолд[40]. У меня практически самая большая роль, – говорит. Ух как она уже вся проснулась. Она очень колобродится, когда такую фигню рассказывает. – Начинается, когда я умираю. Перед Рождеством приходит этот дух и спрашивает, стыдно ли мне и все такое. Ну, в общем. За то, что страну предал и все такое. Ты придешь смотреть? – Она уже на кровати так и подскочила и всяко-разно. – Вот про это я тебе и написала. Придешь?
– Само собой, приду. Ну еще б не пришел.
– А папа не может. Ему в Калифорнию надо лететь, – говорит. Ух как она уже вся такая проснулась. Ей, чтоб проснуться, секунды две надо. Она сидела – ну как бы на коленях – на кровати и держала меня, нафиг, за руку. – Слушай. А мама сказала, ты дома будешь в среду, – говорит. – Сказала, что в среду.
– Я раньше выехал. Не так громко. Разбудишь всех.
– А сколько времени? Они домой поздно будут, мама говорила. Они поехали на прием в Норуок, в Коннектикут, – говорит такая Фиби. – Угадай, что я сегодня днем делала? Какое кино видала? Угадай!
– Не знаю… Слушай. Они не сказали, когда…
– «Врача», – Фиби такая говорит. – Это специальное кино показывали в Фонде Листера. Только один день показывали, и это сегодня. Про этого доктора в Кентукки и все такое – он еще затыкает одеялом лицо этой девочке, которая калека и не может ходить. А потом его в тюрьму сажают и все такое. Отличное кино просто.
– Послушай секундочку. Они не сказали, когда…
– Он ее жалеет, доктор этот. Потому и лицо ей затыкает и все такое, чтоб она задохнулась. А его потом сажают в тюрьму на пожизненное заключение, но эта девочка, которой он лицо заткнул, приходит его навестить все время и говорит ему спасибо за то, что он сделал. Он из милосердия убийца. Только он знает, что должен в тюрьму сесть, потому что врач не должен у Бога ничего отнимать. Нас мама одной девочки у нас в классе водила. Элис Холмборг. Она моя лучшая подружка. Она одна во всем…
– Погоди минутку, а? – говорю. – Я тебе вопрос задал. Они сказали, когда вернутся, или не сказали?
– Нет, но поздно. Папа взял машину и все такое, чтобы с поездами не связываться. У нас там сейчас радио есть! Только мама говорит, его нельзя играть, когда машина едет.
Меня отпустило – ну вроде. В смысле, я наконец бросил дергаться насчет того, поймают они меня дома или нет. Прикинул – да ну его к черту. Поймают так поймают.
Вы бы видели эту Фиби. В такой пижаме синей, с красными слонятами на воротничке. Слоны для нее – это вообще полный капец.