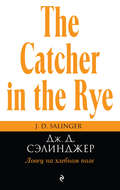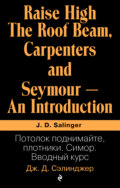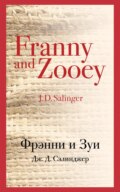Дж. Д. Сэлинджер
Дж. Д. Сэлинджер
Я открыл, а там эта шлюха стоит. В верблюжьем пальто и без шляпы. Как бы блондинка, но видно, что крашеная. Хоть не старая кошелка.
– Здравствуйте, – говорю. Галантно, как не знаю что, ух.
– Это про тебя Морис говорил? – спрашивает. Не очень-то, нафиг, и дружелюбная.
– Это лифтер, что ли?
– Ну, – говорит.
– Про меня. Заходите, что же вы? – говорю. Чем дальше в лес, тем я невозмутимей. По-честному.
Она тут же зашла, сняла пальто и вроде как метнула его на кровать. Под ним было зеленое платье. Потом она вроде как боком эдак села на стул, который вместе с письменным столом в номере есть, и давай ногой подрыгивать вверх-вниз. Ногу на ногу закинула и ну себе ногой дрыгать. Дерганая очень для шлюхи. По-честному. Наверно, потому, что молодая, как не знаю что. Моего где-то возраста. Я уселся в большое кресло рядышком и предложил ей сигу.
– Не курю, – отвечает. А голосок такой тоненький, занудненький. И не расслышишь ни фига. Ни спасибо не сказала, ничего, когда ей что-то предложили. Ни шиша не петрит, чего тут.
– Позвольте представиться. Меня зовут Джим Стил, – говорю.
– Время есть? – спрашивает. Само собой, наплевать ей, как там меня, нахер, зовут. – Эй, а лет-то тебе сколько, а?
– Мне? Двадцать два.
– Не смеши мои коленки.
Забавно она это сказала. Совсем как малявка какая-нибудь. Проститутки и всяко-разно, они же как говорят: «Черта с два» или там «Кончай херню пороть», а тут – «Не смеши мои коленки».
– А вам сколько? – спрашиваю.
– Достаточно, чтобы фишку сечь, – отвечает. Остроумная, куда деваться. – Так время есть или нет? – снова спрашивает, а потом встала и стянула через голову платье.
Вот меня прибабахнуло, когда она так сделала. В смысле – ни с того ни с сего она это вдруг и всяко-разно. Я знаю, полагается, чтоб у тебя ничего так стоял, когда перед тобой берут и стягивают платье через голову, а у меня никак. Никакого стояка и в помине. Больше тоска, чем стояк.
– Так часы у тебя есть, а?
– Нет. Нету, – отвечаю. Ух как меня прибабахнуло. – Вас как зовут? – спрашиваю. А на ней только розовая комбинашка осталась. Как-то совсем неудобняк. По-честному.
– Солнышко, – говорит. – Пошли давай.
– А вам не хочется поговорить чутка? – спрашиваю. Детский сад – такое ляпать, но меня так, нафиг, прибабахнуло. – Вы куда-то ужасно торопитесь?
Она посмотрела на меня как на полоумного.
– И про какую такую херомотину ты хочешь поговорить? – спрашивает.
– Фиг знает. Ни про что особенное. Я просто подумал, может, вам захочется немного поболтать.
Она снова села на стул возле стола. Только ей это не понравилось, сразу видно. Опять ногой задрыгала – ух какая же дерганая девка.
– Может, теперь вам сигарету? – спрашиваю. Я забыл, что она не курит.
– Я не курю. Слышь, если ты разговаривать собрался, так давай. Мне вообще-то некогда.
Только я ничего не смог придумать, чтоб поговорить. Хотел было спросить, как она шлюхой стала и всяко-разно, только забоялся. Да и по-любому, наверно, она б не сказала.
– Вы же не из Нью-Йорка, правда? – наконец спрашиваю. Вот и все, что я сочинил.
– Из Голливуда, – отвечает. Потом встала и подошла к кровати, куда платье свое кинула. – Вешалка есть? – спрашивает. – Не хочу платье мять. С новья совсем.
– Конечно, – тут же отвечаю я. Я только рад был встать и сделать чего-нибудь. Отнес ее платье в гардероб и там его ей повесил. Уржаться можно. Мне как-то убого стало, когда я его вешал. Я подумал, как вот она идет в магаз и его покупает, и там никому невдомек, что она шлюха и всяко-разно. Продавцы, наверно, думают, обычная такая девка. Убого мне стало, как я не знаю что, – и фиг знает, почему.
Я снова сел и попробовал этот разговор все-таки продолжить. Она паршиво беседу вела.
– Вы каждую ночь работаете? – спрашиваю; жуть как прозвучало, как только я рот закрыл.
– Ага. – Она ходила по всему номеру. Взяла со стола меню и стала читать.
– А днем что делаете?
Она как бы плечами пожала. Вполне себе тощая.
– Сплю. В кино хожу. – Она отложила меню и посмотрела на меня. – Пошли давай, а? Что мне, всю ночь…
– Слушайте, – говорю. – Мне сегодня не очень по себе. У меня была бурная ночь. Богом клянусь. Я вам заплачу и всяко-разно, но вы не будете возражать, если мы не станем это делать? Вы не очень против будете? – Засада в том, что мне просто не в жиляк было. Больше тоскливо, чем стоял, сказать вам правду. От нее тоскливо. Ее зеленое платье в гардеробе висит и всяко-разно. А кроме того, я вообще не думаю, что у меня встал бы на того, кто весь день сидит в дурацком кино. По-честному, наверно, не встал бы.
Она подошла ко мне с такой уматной рожей, будто не поверила.
– Чего такое? – спрашивает.
– Ничего не такое. – Ух как меня заколотило. – Засада в том, что у меня очень недавно операция была.
– Ну? Где?
– На этом, как его, – на клавикорде.
– Да ну? А это, нахрен, где?
– Клавикорд? – говорю. – Ну, вообще-то он в спинномозговом канале. В смысле, вполне глубоко в спинномозговой канал закопался.
– Да ну? – говорит. – Это туго. – А потом она села, нафиг, мне на коленки. – Ты лапуся.
Меня так заколотило, что я врал себе дальше напропалую.
– Я еще не оправился, – говорю.
– Ты похож на парня из кино. На этого. Как его. В общем, сам знаешь. Как же, нахрен, его зовут?
– Фиг знает, – отвечаю. А она с коленей моих, нафиг, не слазит.
– Да знаешь. Он еще в той картине был с Мельвином Дагласом? Там еще, где мелкий братец у Мельвина Дагласа? Который еще за борт падает? Ну ведь знаешь, о ком я[21].
– Нет, не знаю. Я стараюсь в кино как можно реже ходить.
Тут она давай со мной чудить. Дуболомно так и всяко-разно.
– Вы бы не против перестать? – спрашиваю. – Я не в настроении, я ж вам только что сказал. Я недавно операцию перенес.
Только она с коленок моих ни встала, ничего, а поглядела на меня так гнусно, что мама дорогая.
– Слышь, – говорит. – Я спала вообще, когда этот долбанутый Морис меня разбудил. Если ты думаешь, я…
– Я же сказал, я вам заплачу, что пришли, и всяко-разно. По-честному. Грошей у меня много. Просто я практически только оправляюсь после очень серьезной…
– А какого ж хера тогда ты сказал этому долбанутому Морису, что тебе девка нужна, а? Если у тебя, нафиг, операция на твоем, нафиг, как его там. А?
– Я думал, мне лучше станет, а не стало. Я слегка не подрассчитал. Кроме шуток. Извините. Если вы на секундочку встанете, я схожу за бумажником. Честно.
Разозлилась она, как не знаю что, но встала у меня, нафиг, с колен, чтоб я сходил к комоду за лопатником. Я вытащил пятерку и отдал ей.
– Большое спасибо, – говорю. – Огроменное просто спасибо.
– Это пятерка. А стоит десятку.
Чудит, сразу видать. Вот чего-то такого как раз я и боялся – по-честному боялся.
– Морис сказал – пятерку, – говорю. – Сказал, пятнадцать до полудня, пятерку за палку.
– Десять за палку.
– Он сказал – пять. Мне очень жаль – по-честному, – но больше я ничего не выкачу.
Она вроде как бы пожала эдак плечами – как раньше, – а потом говорит, очень холодно:
– Ты мне платьице не принесешь? Или тебе слишком трудно? – Не малявка, а жутик какой-то. Даже этим своим корявым голосочком напугать может. Да будь она старой шлюхой, с кучей краски на роже и всяко-разно, и то не была б таким жутиком.
Я пошел и сходил за ее платьем. Она его надела и всяко-разно, потом сгребла с кровати верблюжье пальто.
– Пока, нищеброд, – говорит.
– Пока, – говорю. Ни спасибо ей не сказал, ничего. Ну и хорошо, что не сказал.
14
Когда эта Солнышко ушла, я немного посидел в кресле и выкурил пару сиг. Снаружи светало уже. Ух как мне было гнило. Так тоскливо, что вы себе и представить не можете. И я тогда вот чего – я начал вслух как бы разговаривать, с Олли. Я так делаю иногда, если совсем невпротык. Твержу ему, чтоб домой шел, брал велик и ждал меня перед домом Бобби Фэллона. Бобби Фэллон совсем недалеко от нас в Мэне жил – ну, то есть давно еще. В общем, там вот что было: однажды мы с Бобби собрались на великах на озеро Седебего. Хотели пожрать с собой взять, воздушки – ну, мы ж пацаны и всяко-разно, думали, чего-нибудь из воздушек настреляем. А Олли, короче, услыхал, как мы договариваемся, и тоже захотел, а мы не взяли. Я ему сказал, что он еще мелкий. Поэтому теперь время от времени, когда мне сильно тоскливо, я ему все время повторяю: «Ладно. Дуй домой, бери велик и жди меня перед домом Бобби Фэллона. Чтоб пулей». Фигня не в том, что я его с собой не брал, когда сам ходил куда-нибудь. Я брал. А вот в тот день не взял. Он не разозлился – он никогда ни на что не злился, – только я все равно про это думаю, когда мне очень тоскливо.
Наконец, в общем, я разделся и залез в постель. Хотел помолиться или как-то, когда улегся, только не смог. Я не всегда могу молиться, если хочется. Во-первых, я вроде как атеист. Иисус мне в струю и всяко-разно, а прочая фигня в Библии по большей части – фуфло. Взять Апостолов, к примеру. Сказать вам правду, они меня раздражают, как не знаю кто. Когда Иисус помер и всяко-разно, они еще ничего, а пока был жив, они Ему столько же пользы приносили, что дырка в башке. Только подставляли Его по-всякому. Мне в Библии почти все нравятся больше Апостолов. Если по правде, так больше всех после Иисуса в Библии мне нравится этот псих и всяко-разно, который в склепах жил и все камнями себя побивал. Мне этот гад в десять раз больше Апостолов нравится, бедолага. Я все время из-за него в свары ввязывался, когда в Вутоне учился, с тем пацаном, что дальше по коридору жил, с Артуром Чайлдзом. Этот Чайлдз был квакер и всяко-разно, и все время Библию читал. Нормальный такой пацан, мне он нравился, но вот как до фигни всякой в Библии дойдет – сразу с ним собачимся. Он все твердил, что мне если не нравятся Апостолы, то Христос и всяко-разно тоже не нравится. Говорит, любить их полагается потому, что Христос их сам выбрал. Я говорю: я знаю, что выбрал, но выбирал-то он их наобум. Говорю, у Него ж не было времени ходить и всех анализировать. Я Христа ни обвиняю, никак. Он же не виноват, что Ему времени не хватило. Помню, спросил этого Чайлдза, как он считает – Иуда, тот, что Христа предал и всяко, в Ад после самоубийства отправился или как? Чайлдз говорит: конечно. И вот тут как раз я с ним не согласился. Говорю: спорнем на тыщу, что Христос никогда этого Иуду в Ад не сошлет. И сейчас спорнул бы, если б тыща была. Я думаю, любой Апостол Иуду бы в Ад отправил и всяко-разно – да еще и вприпрыжку, – но на что угодно спорнуть, Христос бы так делать не стал. А этот Чайлдз говорит, у меня засада в том, что я в церковь не хожу или как-то. Тут он в каком-то смысле прав. Не хожу. Во-первых, штрики у меня разной веры, а все дети в семье – атеисты. Сказать вам правду, я священников даже не перевариваю. У тех, что в школах были, куда я ходил, у всех такие поповские голоса, когда проповеди свои читают. Господи, как же я их ненавижу. И нет бы нормальными голосами говорить. А то как пасть раскроют – такое фуфло.
Ладно, в общем, когда я лежал в постели, помолиться у меня ни шиша не вышло. Только начну, как прямо вижу: эта Солнышко меня нищебродом обзывает. Наконец я не выдержал, сел на кровати и выкурил еще сигу. На вкус – параша. Я, наверно, две пачки уже выкурил, как из Пенси свалил.
Вдруг ни с того ни с сего, пока я лежу там и курю, кто-то в дверь стучит. Я надеялся, что это не ко мне в дверь стучат, но все-таки мне отлично известно было, нафиг, что ко мне. Фиг знает, откуда, но знал. И кто там, тоже знал. Я телепат.
– Кто там? – спрашиваю. Я нехило так испугался. Ссыкун я насчет такой хреноты.
А там только снова постучали. Громче.
Наконец я слез с кровати в одной пижаме и открыл дверь. Даже свет включать не надо было, потому что уже день. Там стояли эта Солнышко и Морис – субчик из лифта.
– Что такое? Вам чего надо? – говорю. Ух, а голос у меня дрожит, как я не знаю что.
– Да ничё особого, – говорит этот Морис. – Тока пятерку. – Он за них обоих разговаривал. Эта Солнышко только рядом стоит, рот разинув и всяко-разно.
– Я ей уже заплатил. Пятерку дал. Спросите сами, – говорю. Ух как же у меня голос-то дрожит.
– Десятка, шеф. Я ж те сказал. Десятка за палку, пятнашка до полудня. Я те грил.
– Вы не это мне сказали. Вы сказали пятерку зараз. Сказали, пятнадцать до полудня, – это да, но я отчетливо слышал, как вы…
– Рассупонивайся, шеф.
– Чего ради? – говорю. Ох, это сердце меня чуть из комнаты, нафиг, не выталкивало. Все-таки надо было хоть одеться, что ли. Жуть, когда стоишь в одной пижаме и какая-то вот такая хренота творится.
– Пошли, шеф, – говорит этот Морис. И толкает меня этой своей захезанной рукой. Я чуть на пердак не свалился – Морис этот огромный же, падла. А потом я и вякнуть не успел, как они с Солнышком уже в номере. Будто хозяева, нафиг. Эта Солнышко на подоконнике расселась. А Морис этот плюхнулся в кресло, растеребил себе воротничок и всяко-разно – он в лифтерской форме еще был. Ух как меня трясло.
– Лана, шеф, отстегивай. Мне на работу еще.
– Я ж вам раз десять сказал, я вам ни цента больше не должен. Я уже дал ей пятерку…
– Кончай херню пороть, ну? Отстегивай.
– Чего это ради я должен ей еще пять? – говорю. Голос у меня срывался и чуть по комнате не скакал. – Харэ меня трамбовать.
Этот Морис всю куртейку свою расстегнул. Под ней у него был этот фуфлыжный воротничок, а ни рубашки, ничего больше не было. Жирное волосатое пузо.
– Никто никого не трамбует, – говорит. – Отстегивай, шеф.
– Не буду.
Когда я это сказал, он встал с кресла и на меня пошел и всяко-разно. С таким видом, будто он сильно-сильно устал или ему сильно-сильно скучно. Ох как же я перессал. Еще помню, я как бы руки на груди сложил. А вообще все бы не так фигово, наверно, если б на мне этой, нафиг, пижамы не было.
– Отстегивай, шеф. – Он уже совсем ко мне подошел. Заладил, как пономарь: «Отстегивай, шеф». Вот дебил.
– Не буду.
– Шеф, ты мя вынуждаешь из тя вышибить чутка. Я не хочу, но так похоже, – говорит. – Ты нам должен пятерку.
– Ничего я вам не должен, – говорю. – А будете вышибать, я заору как не знаю что. Всю гостиницу разбужу. Полиция и всяко-разно. – Голос у меня дрожал, гадство.
– Валяй. Ори, нафиг, сколько влезет. Отлично, – говорит этот Морис. – Хочешь, чтоб предки узнали, как ты ночь со шлюхой тут барахтался? А еще приличный пацан такой? – Он вполне себе соображал, для хезушника-то. По-честному.
– Оставьте меня в покое. Если б вы сказали десятка, я б не рыпался. Но вы отчетливо…
– Не отстегнешь, значит? – Он меня, нафиг, совсем к двери прижал. Чуть не топтался по мне, с этим своим захезанным волосатым пузом и всяко-разно.
– Оставьте меня в покое. И убирайтесь, нахер, из моего номера, – говорю. А руки у меня по-прежнему сложены и всяко-разно. Господи, вот же я ушибок.
Тут Солнышко рот впервые раскрыла.
– Эй, Морис, – говорит. – Мне лопатник у него взять? Он у него там на как его там.
– Ага, давай.
– Оставьте мой бумажник в покое!
– Взяла уже, – говорит Солнышко. И помахала у меня перед носом пятеркой. – Видишь? Я у тебя только пятерку взяла, которую ты мне должен. Я не жулик.
И тут я вдруг разревелся. Что угодно бы отдал, только б не реветь, а заревел.
– Нет, – говорю, – вы не жулики. Вы только сперли у меня пять…
– Заткнись, – говорит этот Морис и пихает меня.
– Оставь его в покое, а? – говорит Солнышко. – Пошли уже, а? Долг взяли, капуста у меня. Пошли. Давай, ну?
– Иду, – говорит Морис. Только не пошел.
– Я серьезно, Морис, эй. Оставь его в покое.
– А я ж его рази пальцем? – спрашивает он, весь такой невинненький, как я не знаю что. А потом чего – потом он щелбан дал мне по пижаме, очень сильно. Не скажу куда, но больно было, как не знаю что. Я ему сказал, что он, нафиг, гнусный дебил.
– Это чё такое? – говорит. И ладонь к уху поднес, с понтом, глухой. – Чё? Кто я?
А я по-прежнему ну как бы реву. Зла, нафиг, не хватает, и колотит, и всяко-разно.
– Ты гнусный дебил, – говорю. – Ты тупое дебильное жулье, года через два на улице ты на кофе клянчить будешь, как все эти оборванцы. И все гнусное пальто у тебя будет в соплях, и ты будешь…
Тут он мне и двинул. Я даже ни дернулся, чтоб уклониться, ничего. Только чую, как он неслабо мне в живот заехал.
Но меня ни вырубило, ничего, потому что я помню, как лежу на полу, а они из номера выходят и дверь за собой закрывают. Я потом еще долго на полу лежал, как тогда со Стрэдлейтером. Только теперь я думал, что подыхаю. По-честному. Вроде как тону или чего-то. Засада в том, что не вздохнуть. Когда я наконец встал, в ванную пришлось тащиться скрючившись, я за живот держался и всяко-разно.
Только я же долбанутый. Ей-богу, долбанутый. Где-то на полдороге в ванную я как бы стал прикидываться, будто мне пулю в живот зафигачили. Это Морис меня подстрелил. И теперь я тащусь в ванную накатить бурбона или как-то, чтоб нервы успокоить и по-честному уже за дела приняться. Я прикинулся, как выхожу из ванной, весь такой при параде и всяко-разно, с пушкой в кармане, чуть покачиваюсь. Потом такой спускаюсь по лестнице – не на лифте. За перила держусь и всяко-разно, а из угла рта струйка крови по чуть-чуть. И чего делаю – спускаюсь так на несколько этажей, кишки придерживая, кровища кругом, а потом жму кнопку лифта. И только этот Морис открывает двери, как видит меня с пушкой и давай визжать этим своим ссыкливым голоском, чтоб его оставили в покое. Но я ему все равно всажу. Шесть выстрелов, прямо в жирное волосатое пузо. Потом швырну пушку в шахту лифта – стерев сначала пальчики и всяко-разно. Затем доползу до номера, позвоню Джейн и попрошу приехать и перевязать мне кишки. Я так и видел ее: сигу мне подносит, чтоб я покурил, пока из меня кровь хлещет и всяко-разно.
Кино, нафиг. От него вся херня. Без балды.
В ванной я просидел где-то час – в ванне и всяко-разно. Потом обратно до кровати доплелся. Уснуть сразу не получилось – я ж даже не устал, – но уснул наконец. Хотя лучше всего было б вот чего – в жилу было бы покончить с собой. Хоть в окошко прыгай. И прыгнул бы, наверно, кабы точно знал, что меня сразу чем-нибудь накроют, как приземлюсь. Не в жилу, если толпа дурацких глазолупов стоит и пялится, когда от меня одна каша.
15
Спал я недолго, потому что когда проснулся, было всего часов десять. Как только выкурил сигу, мне тут же захотелось жрать. В последний раз я зачикал те два гамбургера с Броссаром и Экли, когда мы в Эйджерстаун в кино ездили. Давно. Чуть не полвека назад. Телефон стоял рядом, поэтому я стал было звонить, чтоб завтрак в номер принесли, но как бы испугался, что его пришлют с этим Морисом. Вы долбанулись, если думаете, будто я по нему соскучился. Поэтому я полежал немного в постели и выкурил еще сигу. Решил было звякнуть этой Джейн, проверить, может, она уже дома и всяко-разно, только что-то мне было не в струю.
Я поэтому чего – я этой Сэлли Хейз звякнул. Она ходила в Мэри А. Вудрафф, и я точняк знал, что она уже дома, – я ж от нее письмо получил пару недель назад. Она мне, конечно, не сильно в струю, но мы много лет знакомы. Я раньше думал, что она вполне себе такая сечет, – по собственной глупости думал. Все потому, что Сэлли много чего знает про театр, пьесы и литературу, да и о прочей всякой фигне. Если кто-нибудь про такую хрень много знает, сильно не сразу просечешь, дура она или нет. У меня много лет ушло в случае Сэлли. Наверно, и раньше бы просек, если б мы с ней так много, нафиг, не обжимались. У меня большая засада в том, что я вечно думаю, будто эта, с кем я обжимаюсь, нормально сечет. Оно тут, нафиг, совсем ни при чем, только я все равно так думаю.
Ладно, в общем, я ей звякнул. Сначала горничная ответила. Потом ее штрик. Потом она подошла.
– Сэлли? – говорю.
– Да, а кто это? – отвечает. Та еще фуфлыжница. Я уже ее штрику сказал, кто это.
– Холден Колфилд. Ты как?
– Холден! Я прекрасно! Как ты?
– Шикарно. Слышь. Ладно, ты вообще-то как? В смысле, как школа?
– Отлично, – говорит. – Ну то есть – сам знаешь.
– Шикарно. В общем, слышь. Я тут подумал – ты сегодня как, занята? Сегодня воскресенье, но по воскресеньям пара дневных спектаклей есть. Скидки и прочая фигня. Не против сходить?
– Было б здорово. Славно.
Славно. Я одно слово не перевариваю – «славно». Фуфло. Меня какую-то секунду подмывало сказать ей, что ну его нафиг, этот дневной спектакль. Но мы еще сколько-то потрындели. То есть она трындела. Там слово вставить – никак. Сначала она мне задвигала про какого-то типуса из Харварда – может, салага какой, этого она, само собой, не сказала, – который залип на ней, как я не знаю что. Звонит ей день и ночь. День и ночь – тут я чуть не сдох. Потом рассказала про какого-то другого типуса, какого-то кадета из Уэст-Пойнта[22], который из-за нее тоже чуть в петлю не лезет. Куда деваться. Я ей сказал, что встретимся под часами «Билтмора» в два, и чтоб не опаздывала, потому что начало, скорее всего, в полтретьего. Она вечно опаздывает. Потом повесил трубку. С ней сплошной геморрой, но она очень симпотная.
С этой Сэлли я договорился, слез с кровати, оделся и упаковался. Только перед тем, как выходить, поглядел в окно, как там извращенцы поживают, но у всех шторы были задернуты. По утрам они просто сама скромность. Затем спустился на лифте и выписался. Этого Мориса нигде было не видать. Я, само собой, искать его сломя голову не кинулся, гада.
Возле гостиницы я поймал мотор, а куда, нахер, ехать – фиг поймешь. Некуда мне ехать. Только воскресенье, а домой до среды никак, ну, на крайняк уж – до вторника. В другую гостиницу – не в струю, чтоб там башку мне проломили. Поэтому я чего – я говорю водиле, отвезите меня на вокзал Гранд-Сентрал. Он совсем рядом с «Билтмором», где мы с Сэлли потом встречаемся, и я прикинул, что вот как сделаю – сдам чемоданы в ячейку такую, от которой ключи дают, а потом позавтракаю. Я вроде как проголодался. Пока ехали, я вытащил лопатник и гроши свои пересчитал. Не помню точно, сколько у меня оставалось, но не целое состояние или как-то. Я до фигища всего за две какие-то недели спустил. По-честному. Я в душе, нафиг, транжира. Что не трачу, то прощелкиваю. Куда ни кинь, сдачу забрать забываю – в ресторанах и ночных клубах, и всяко-разно. Предки просто на стенку лезут. И правильно, в общем. Хоть штрик у меня и богатенький. Не знаю, сколько он там зашибает, – он про такое со мной никогда не заговаривал, – только я прикидываю, что дофига. Он корпоративный юрист. А эти ребята гроши лопатой гребут. Еще почему я знаю, что у него гроши водятся, – он вечно их вкладывает в бродуэйские постановки. Только те вечно проваливаются, и штруня моя просто рвет и мечет, когда он опять вкладывает. Она не очень здоровая у меня после того, как братец Олли помер. Нервная очень. Вот еще почему мне как не знаю чего не хотелось, чтоб она знала про мой выпуль.
Я сложил чемоданы в такую ячейку на вокзале, а потом зашел в эту бутербродную и позавтракал. Плотный вышел завтрак – для меня то есть: апельсиновый сок, яичница с беконом, гренок и кофе. Обычно я только сок пью. Я вообще малоед. По-честному. Потому и такой, нафиг, тощий. Мне надо на диете сидеть, когда жрешь только крахмал и прочую херню, чтоб вес набрать, но я этого никогда не делал. Если хожу куда-нибудь, лопаю только бутер со швейцарским сыром да солодовым молоком запиваю. Жидковато, конечно, только в солодовом молоке куча витаминов. Я известен как Х. К. В. Холден Колфилд, он же Витамин.
Пока я разбирался с яичницей, заходят две такие монашки с чемоданами и всяко-разно – я прикинул, в другой монастырь переезжают или как-то и ждут поезда – и садятся рядом возле стойки. Видать, ни шиша не секли, куда им девать чемоданы, поэтому я им помог. Чемоданы такие сильно дешевые на вид – ни из настоящей кожи, никак. Не важно, я знаю, но я терпеть не могу, когда чемоданы у кого-то дешевка. Говорить так – жуть, конечно, только я человека возненавижу запросто даже с первого взгляда, если у него чемоданы дешевка. Было дело раз. Одно время, пока я ходил в Элктон-Хиллз, я жил в комнате с этим пацаном, Диком Слэглом, и у него были очень дешевые чемоданы. Он их под кроватью держал, а не на стойке, чтоб никто не видел их рядом с моими. У меня, нахер, такая тоска от них была, что страшно, и мне все хотелось свои выкинуть или как-то – или даже поменяться с ним. Мои-то от «Марка Кросса»[23], из настоящей воловьей кожи и прочая херня, и стоили, наверно, не два пенни. Только вот что умора. Вот чего тогда было. Я чего – я в конце концов свои чемоданы себе под кровать запихал, чтоб на стойку не выставлять, а то у этого Слэгла, нафиг, комплекс неполноценности разовьется. А он вот чего. На следующий день взял их, вытащил и обратно на стойку заволок. А зачем – я только потом докопался: он, оказывается, хотел, чтобы все думали, будто мои чемоданы – это его. По-честному. Забавный типус в этом смысле. Вечно гадости про них какие-нибудь отпускал, например, про мои чемоданы. Слишком, говорит, новые и буржуазные. Это у него, нафиг, любимое слово было. Где-то вычитал или услышал. Что бы я ни делал – все буржуазно, как не знаю что. Даже авторучка у меня буржуазная. Он у меня ее постоянно клянчил пописать, но все равно буржуазная. Вместе мы прожили где-то месяца два. А потом оба запросились, чтоб нас расселили. А самая умора вот чего: когда мы разъехались, я как-то даже скучать по нему стал, потому что у него чувство юмора неслабое и вместе нам было иногда сильно зашибись. Не удивлюсь, если меня ему тоже не хватало. Сначала он как бы не по серьезу фигню мою буржуазной называл, и мне надристать было – ну смешно же, в самом деле. А потом через некоторое время уже видно было – это он не шутит. Фигня в том, что очень не в струю жить с кем-то в одной комнате, если у тебя чемоданы сильно лучше его – если у тебя они по правде хорошие, а у него нет. И можно подумать, раз он чего-то сечет и всяко-разно, человек этот, и у него неслабое чувство юмора, ему тогда надристать, у кого чемоданы лучше, только ему не надристать. По-честному. Потому, например, мне и приходилось селиться с такими тупыми гадами, как Стрэдлейтер. У них, по крайней мере, чемоданы не хуже моих.
Ладно, в общем, уселись эти две монашки рядом, и мы с ними как бы разговорились. У той, что совсем рядом сидела, была такая плетеная корзинка, вроде тех, в которые монашки и шмары из Армии Спасения гроши под Рождество собирают. Стоят на всех перекрестках, особенно на Пятой авеню, перед здоровыми универмагами и всяко-разно. В общем, та, что рядом сидела, корзинку на пол уронила, а я нагнулся и поднял. Спрашиваю, на благотворительность собирают или как. Она говорит, нет. Просто в чемодан не влезла, поэтому надо ее отдельно носить. Когда монашка на меня смотрела, у нее была ничего так себе улыбка, нормальная. Шнобель здоровый только, и очки такие, в железной вроде как оправе – ни шиша не красивые, но лицо зашибись какое доброе.
– Я подумал, если вы пожертвования собираете, – говорю я, – то я бы мог чего-нибудь дать. А деньги вы оставите на потом, когда будете собирать.
– О, как это любезно с вашей стороны, – говорит она, а вторая, подруга ее, на меня поглядела. Эта черную книжечку такую читала, пока пила кофе. Книжечка похожа на Библию, но тощая. Только все равно вроде Библии. А завтракали они обе одними гренками с кофе. Мне аж тоскливо стало. Терпеть не могу, когда сам жру яичницу с беконом, а кто-то другой – одни гренки с кофе.
Они мне разрешили, в общем, пожертвовать десятку. И все допрашивали, уверен ли я, что могу себе это позволить и всяко-разно. Я им сказал, что у меня при себе денег полно, только они мне, видать, не поверили. Хотя гроши потом взяли. Обе меня так благодарили, что просто неудобняк. Я перевел разговор на общие темы и спросил, куда они едут. Они ответили, что преподают в школе, только с поезда из Чикаго и будут училками в каком-то монастыре на 168-й или на 186-й – или где-то там, в порядочной заднице в общем. Та, что со мной рядом сидела, в железных очках, сказала, что ведет английский, а подруга ее – историю и американское государственное управление. Тогда я, как последний гад, стал думать: вот она, которая рядом сидит, английский ведет – о чем она думает, монашка же и всяко-разно, когда кое-какие книжки для своих уроков читает. Там, конечно, не обязательно кто-нибудь друг друга приходует, но есть же любовники и всяко-разно. Скажем эта Юстасия Вай в «Возвращении на родину» Томаса Харди. Ни слишком симпотная, ничего, но даже так интересно, чего может думать монашка, если читает себе про эту Юстасию. Хотя, естественно, я ничего не сказал. Сказал только, что английский у меня – лучший предмет.
– Ох, правда? Ой, я так рада! – говорит очкастая, которая английский ведет. – А что вы прочли в этом году? Мне очень интересно. – Ничего она, очень нормальная такая.
– Ну, мы по большей части англосаксов проходили. «Беовульфа», и этого Гренделя, и «Лорд Рэндэл, мой сын» и всякое такое. Но время от времени внеклассные книжки читать тоже надо, чтоб оценка выше была. Я читал «Возвращение на родину» Томаса Харди, и «Ромео и Джульетту», и еще «Юлия…»
– О, «Ромео и Джульетта»! Какая прелесть! Вам же понравилось, да? – Не сильно-то она и на монашку смахивала, когда это сказала.
– Да, понравилось. Очень сильно. Там кое-что мне, правда, не понравилось, но в целом очень трогательная.
– А что вам там не понравилось? Не припомните?
Сказать вам правду, говорить про «Ромео и Джульетту» с ней было как-то неудобняк. В смысле, пьеса же местами вполне себе жаркая такая, а она – монашка и всяко-разно, но она ж сама меня спросила, поэтому мы с ней немного про пьесу поговорили.
– Ну, Ромео и Джульетта мне как-то не очень, – говорю. – В смысле, они мне нравятся, только… не знаю. Иногда они сильно достают. В смысле, мне гораздо жальче было, когда этого Меркуцио грохнули, чем Ромео и Джульетту. Штука в том, что мне Ромео никогда особо не нравился после того, как Меркуцио зарезал этот второй, кузен Джульетты, как его…
– Тибальт.
– Ну да, Тибальт, – говорю – я постоянно имя этого типуса забываю. – Это Ромео виноват. В смысле, мне он в пьесе больше всех понравился, Меркуцио этот. Фиг знает. Все эти Монтекки и Капулетти – они нормальные, особенно Джульетта, но Меркуцио, он… трудно объяснить. У него котелок нормально варит, и он смешной, и всяко-разно. Тут штука в том, что я просто с катушек слетаю, если кого-то убивают, – особенно если кто с таким-то котелком, и смешной, и всяко-разно, и если виноват кто-то другой. Ромео и Джульетта – это они сами и виноваты.
– А вы в какой школе учитесь? – она меня спрашивает. Наверно, хотела съехать с темы Ромео и Джульетты.