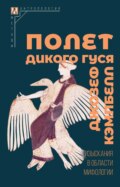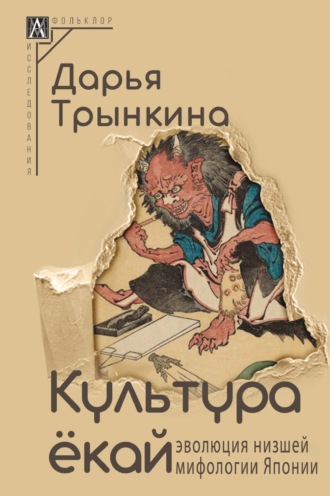
Дарья Трынкина
Культура ёкай. Эволюция низшей мифологии Японии
Джеральд Фигал и Акасака Норио полагают, что в дальнейшем Янагита меняет свои воззрения в том числе из-за дискуссии с коллегой Минаката Кумагусу. В переписке 1915–1916 годов тот высмеивает взгляды Янагита, приводя пример, как его самого после экспедиции по сбору насекомых в горах жительницы деревни приняли за ёкай[28]. Однако едва ли подобные аргументы могли развенчать эвгемеристическую теорию (в конечном итоге они скорее подтверждали реалистичность такого подхода), поэтому причину стоит искать, скорее, в отсутствии доказательств: в 30-е годы Янагита вместе с коллегами проводит исследование 53-х горных деревень Японии, рассчитывая обнаружить культурный пласт, позволивший бы сделать вывод, что предки их жителей – это особый народ. Однако, как пишет А. М. Мещеряков, этим ожиданиям не дано было сбыться – фактические данные эту теорию не подтвердили[29].
Постепенно научная парадигма у Янагита меняется. Он начинает рассматривать ёкай в качестве главных действующих лиц в концепции «скрытого мира» (ю: мэй 幽冥), которую связывает с морально-этической картиной мира у японцев. Янагита полагает, что народная космология основана на дихотомии этого мира (гэнсэ 現世) и «скрытого мира», в рамках которой существует представление, что этот мир можно наблюдать из скрытого, а скрытый из этого – нет. Таким образом у Янагита постепенно оформляется концепт о неких «наблюдателях» из «скрытого мира», на страхе наказания со стороны которых и строится картина мира простого народа. Позже из ёкай эти наблюдатели превращаются сначала в ками, а затем и в предков самих японцев. Отсюда и проистекает знаменитая идея Янагита о том, что, «когда старые верования теснили, и те уступали место новым, все божества были понижены в ранге и превратились в ёкай. Таким образом, ёкай – это божества, лишившиеся официального признания»[30]. Эту концепцию Янагита мог также почерпнуть у Уильяма Йейтса, чью классическую работу «Кельтские сумерки» (1893) он использовал в качестве модели для своей первой книги «Тоно моногатари». Йейтс полагал, что фейри в ирландской мифологии являются языческими богами, чей статус был понижен с приходом христианства.
У Янагита эта идея впервые появляется в эссе «Одноглазый монашек» (Хитоцумэ кодзо:, 1917). Он объяснял трансформацию ёкай следующим образом:
Как и большинство обакэ, хитоцумэ-кодзо – это малое божество, которое оказалось оторвано от своих корней и потеряло свое происхождение (…) в какой-то момент в далеком прошлом существовал обычай убивать кого-то на празднике в честь божества, чтобы то обрело члена семьи. Возможно, изначально выбранному в жертву человеку выкалывали глаз и ломали ногу, чтобы перед праздником он не смог сбежать (…) в любом случае, по прошествии некоторого времени эта церемония исчезла, и остался только ритуал с выкалыванием глаза (…) со временем и выкалывание глаза стало чрезмерной процедурой (…) в то же время жила память о том, что в прошлом у горё [мстительных духов высокопоставленных лиц. – Д. Т.] был один глаз, так что, когда это малое божество перестало ассоциироваться с высшими богами и стало обитать в горах и полях, его достаточно быстро начали бояться[31].
Таким образом, Янагита пробует объяснить происхождение ёкай, следуя логике дедукции и исходя из образа одного персонажа. Для построения своего объяснения он использует знакомые ему образы хитоцумэ-кодзо и горё, а затем пытается построить редукционистскую рационалистическую модель с неким безызвестным божеством, ради которого человеку наносятся травмы, которые внешне его приближали к образу хитоцумэ-кодзо. По сути, это все то же эвгемеристическое толкование: человек физическим образом превращается в персонажа низшей мифологии, которых во многих культурах мира характеризовало отсутствие некой части тела. Хотя такое объяснение и притягательно своей простотой, сейчас бы мы сказали, что на основе одного нарратива об одном персонаже, конечно же, нельзя строить теорию, которая должна объяснить весь феномен низшей мифологии.
В более позднем произведении «Рассказы о мэдоти после праздника Бон» (Бон суги мэдоти дан, 1932) Янагита продолжает свою «теорию деградации» ёкай, на этот раз на примере мэдоти (вид каппа). Он указывает, что изначально этот персонаж вызывал страх и люди убегали от тех мест, где он прячется. Затем люди решили, что глупо избегать тех мест, где могут водиться каппа, и им становилось там просто некомфортно. Происходил процесс разделения населения на верящих в персонажей низшей мифологии и неверящих. Заканчивался он на третьей стадии, когда неверящих в каппа становилось больше, и в итоге появляются рассказы об «усмирении» персонажей низшей мифологии, а сам их образ из поверий становится сферой развлечений и сказок для детей.
В своем основном произведении о низшей мифологии «Дискуссия о ёкай» (Ё: кай данги, 1938) Янагита комментирует применение различных терминов для персонажей низшей мифологии и с первых же строчек обозначает, какой собирательный термин для персонажей народной демонологии он будет использовать – это «бакэмоно».
Слово «бакэмоно», как и ёкай, чрезвычайно популярное сейчас, появляется в исторических источниках в период Муромати, и в то время означало некую сущность, которая способна менять собственную форму и облик4.
Для Янагита слово «бакэмоно» по своему значению приближалось к ёкай-хэнгэ у Эма: снова под термином, означающим меняющую форму сущность, выступают практически все персонажи актуальной мифологии. Янагита комментирует применение различных терминов для персонажей низшей мифологии и пишет, что сейчас среди городского населения есть очень много людей, которые верят в юрэй, однако путают их с бакэмоно:
Их [юрэй. – Д. Т.] можно назвать обакэ, однако назвать их бакэмоно будет как-то странно. Оива и Касанэ[32] кажутся страшными именно из-за того, что являются в том же облике, что были при жизни, поэтому использовать в их отношении слово «обакэтэдэру»[33] кажется ошибочным. Хэнгэ же прячутся за иллюзиями и показывают свой истинный облик только столкнувшись с храбрыми воинами. Более того, даже если дух честно скажет, что он призрак Тайра-но Томомори, после этого все равно начнется спор о том, кем же этот дух был на самом деле, так как такое старое имя будет вызывать живой интерес[34].
Таким образом, можно отметить любопытный факт: для Янагита слова «обакэ» и «бакэмоно» не являются синонимичными. Однако он использует их как взаимозаменяемые, когда разделяет персонажей низшей мифологии на две большие категории:
Между обакэ (オバケ) и юрэй существует очевидная разница, и кто угодно может это понять. Во-первых, обычно обакэ появляются в определенных местах. Если вы будете их избегать, то вы можете прожить всю жизнь, так и не встретив ни одного из них. В противоположность этому юрэй, несмотря на общее мнение, что ноги у них отсутствуют, будут идти за вами по пятам. Если юрэй выбрал кого-то в качестве цели, он будет продолжать преследовать его даже на расстоянии в сотню ри. Можно сказать, что в ситуации с бакэмоно такого никогда не случится. Во-вторых, бакэмоно никогда не выбирают своих жертв, скорее они нацелены сразу на множество самых обычных людей, в то время как юрэй всегда четко связаны с определенным человеком и только ему показывают свои силы. Следовательно, если у нас нет никаких проблем в отношениях с другими людьми и мы не чувствуем за собой никакой вины, то, конечно, истории о юрэй могут вызывать у нас сочувствие, однако никакой причины волноваться нет, и даже если кто-то ночью пойдет через поле и будет сильно бояться, то, скорее всего, юрэй не появятся, ведь этот человек не причинил никому зла, а вся путаница идет от смешения понятий обакэ и юрэй[35].
Разделяет юрэй и бакэмоно также время появления:
Напоследок нужно сказать еще об одном – о важной разнице в отношении времени. Как только в час быка [с 2 до 4 часов ночи. – Д. Т.] в непроглядном мраке прозвонит колокол, юрэй начнут стучать в дверь или же скрестись в окно, бакэмоно же появляются в самое разное время. Сильный бакэмоно может затемнить всю местность даже посреди белого дня, обычные же появляются в сумерках или на рассвете, когда есть слабый свет. Поздней ночью в кромешной тьме, когда спят даже деревья и трава, бакэмоно не пытаются выходить, так как, чтобы испугать кого-то, нужно, чтобы человек их видел. С другой стороны, и о юрэй, которые появляются в сумерках, с давних пор никто не слышал[36].
По сути, под ёкай Янагита понимает духов местности, а под юрэй – духов конкретных людей.
Далее в работе «Дискуссия о ёкай» Янагита раскрывает смысл исследования нарративов об актуальной мифологии. Для объяснения поверий о какусиками (ками, похищающем детей) он приводит множество подобных персонажей из разных регионов Японии (какурэмбо/какурэбаба/какурэдзёкко), и останавливается на персонаже с именем «какурэдзато:» (странствующий слепой музыкант, который похищает детей) и далее соотносит название этого персонажа с поверьями о какурэдзато (скрытой деревне). Поверья о ней имели несколько иную функциональную область, и в префектуре Тотиги, уезде Хага суть заключалась в том, что если человек услышит звук, как будто очищают рис, и далее, если звук будет отдаляться, то ему грозит разорение, а если приближается, то нужно взять сито в руки и вытянуть их у себя за спиной, не оборачиваясь, тогда туда насыпятся разные сокровища. Янагита соотносит это с поверьями о моти какурэдзато: в префектуре Ибараки, которые можно найти в траве, и стать богачом. Янагита пишет:
Несмотря на то, что содержание зачастую забывается, само название остается и зачастую люди переносят его на обакэ. Народные верования изменяются в соответствии с миром, в котором они функционируют, однако это не означает, что от их изначального значения ничего не остается, и, как я полагаю, на протяжении долгого времени они сохраняются в бессознательном[37].
Янагита полагает, что бакэмоно в этом случае – это уже некая «добавочная конструкция». Он сводит подобные рассказы до сказок, по классификации Аарне – Томпсона принадлежащих типу 480 (Госпожа Метелица/Морозко), приводя в пример рассказ о благочестивом старике, который шел ночью по горной дороге и услышал голос, обладатель которого грозил ему, что прыгнет и прицепится. Храбрый старик сказал ему, что пусть прыгает, и придя домой обнаружил мешок с золотом и серебром. Жадный же сосед старика при попытке сделать все то же самое в итоге был облит смолой. Янагита заключает, что со временем форма таких сказок изменялась, мораль о воздаянии за благие дела забывалась, и оставались только поверья о бакэмоно[38]. Таким образом, по мнению Янагита, исследуя поверья о бакэмоно, мы можем обнаружить в них представления о морали древних японцев.
По сути Янагита полагает, что сами рассматриваемые им персонажи актуальной мифологии – это своего рода посредники, которые награждают счастьем и богатством тех, кто прошел «тест» (сикэн 試験) и не испугался, и сам испуг, который сейчас считается конечной целью демонов и духов, таковым изначально не являлся. Он возникает из-за того, что нарративы, которые мы сейчас фиксируем – это искаженные варианты изначальных:
Не верящие в правдивость этих историй [о награждении благодетельных. – Д. Т.] люди не только все больше преувеличивали их странные и смешные черты, и распространяли их на обычных людей тоже, и сохраняли эти свои адаптированные варианты, которых сами и боялись. Это разделение на странное и смешное можно увидеть и в нарративах о каппа, и о ямаотоко. Верящие в эти рассказы люди полагали, что они [каппа и ямаотоко. – Д. Т.] вознаградят их бесконечными богатствами, неверящие же люди говорили, «а существуют ли вообще обакэ?», и каждый раз пугались и становились белыми как полотно. В то же время для тех, кто не мог от всего сердца сказать, что таинственных явлений совсем нет, и смешные, и страшные рассказы о сверхъестественном сохраняли свое очарование[39].
Янагита не пишет это напрямую, но персонажи актуальной мифологии в его интерпретации являются тем самым необязательным элементом в таких нарративах, который приходит на смену фуку-но ками – божествам, которые воздавали по заслугам праведникам и грешникам, и, как он писал четырьмя годами ранее в эссе «Хитоцумэ кодзо и остальные» (1934), персонажи низшей мифологии для него – это пониженные в ранге персонажи высшей мифологии – божества. Можно отметить, что Янагита разделяет уверенность еще викторианских фольклористов в том, что современные им мемораты не могут анализироваться исходя из окружающего их контекста, а являются всего лишь «неправильными воспоминаниями» об изначальных сюжетах. Так же полагал и Иноуэ Энрё.
Зачем в принципе нужно было выделять отдельно категорию бакэмоно и отдельно – юрэй? Результаты этого до сих пор можно увидеть в японской фольклористике: призраки и остальные демоны зачастую считаются персонажами двух непересекающихся категорий. Рискнем предположить, что теоретическая схема Янагита просто плохо подходила к недобрым духам мертвых в качестве фуку-но ками. Призраки Янагита были не очень интересны, потому что за счет присущей им индивидуальности их сложнее было обобщать и делать о них некие универсальные выводы, которые бы позволили реализовать его парадигму об актуальной мифологии как «окне» в древнюю Японию.
Ему это было удобнее сделать и для того, чтобы обосновать свой выбор метода, который сейчас уже кажется как минимум сильно устаревшим. Именно для этого Янагита так много и пишет о том, что бакэмоно появляются в сумерках, а юрэй нет [хотя, казалось бы, почему? – Д. Т.], потому что именно на этимологической игре и была основана его методология. Он пишет о бакэмоно, которые появляются в сумерках, а само слово «сумерки», его различные диалектные формы, сводит к разным вариантам вопросов и фраз, якобы помогающих установить личность прохожих, которых не было видно в сумерках и в которых якобы подозревали тех самых бакэмоно:
…вечер назывался «о: магадоки» («время встречи с демонами»), или «гамагадоки», и вызывал чувство, что это «нехорошее» время, однако в городах оно уже совсем исчезло. Я же родился в деревне и долго жил в одиноком пригородном поселке, поэтому еще немного помню то чувство. В старояпонском языке для обозначения сумерек использовалось слово «каватарэ» или «тасогарэ», так как для понимания, кто перед тобой, приходилось задавать вопросы «карэ-ва дарэ», (кто это? 彼は誰) или «дарэ-дзо карэ» (а это кто?誰ぞ彼), и они использовались не только в качестве интересной языковой игры, но и содержали в себе идею настороженного отношения к встреченной персоне – не бакэмоно ли это?[40]
Далее Янагита развивает эту мысль, сопоставляя по звучанию различные варианты вопросов и фраз с сохранившимися названиями слова «сумерки» в различных диалектах.
От сумерек Янагита переходит к понятию «ками- какуси», которые появлялись именно в сумерках и похищали детей, причем указывает, что «ками» в термине «камикакуси» или «какусигами» – это не совсем боги, поскольку «хоть их в этих местах и называют ками, они вызывают лишь страх»[41], и дальнейшую его аргументацию мы уже изложили выше. Таким образом, призраки для Янагита были бесполезны: никакой интриги с установлением их личности не возникало, и к богам их приписать было сложно.

Рисунок 6. Демонический паук-цутигумо призывает демонов в особняке Минамото-но Ёримицу (1843)
Тем не менее не стоит забывать, что Янагита создал концептуальный каркас, давший начало не только школе фольклористов, но и целой парадигме. В рамках ее «скрытый мир» персонажей японской актуальной мифологии становится ареной для наблюдения неких высших сил – сначала ками, потом предков, который якобы приводит к формированию у японцев определенных моральных качеств. Таким образом рационализируется идея о том, что изучать низшую мифологию нужно, чтобы понять этику и культуру предков.
Подобные же идеи звучали и в среде европейских фольклористов, которые стремились продемонстрировать необходимость сохранения и изучения актуальной мифологии, однако в европейской науке стадия доказательства ценности подобных нарративов прошла еще в XIX веке, а в рамках японской научной традиции бремя доказательства легло на плечи Янагита.
Парадигма Янагита Кунио, состоявшая скорее из отдельных элементов, подобно мозаике, хотя и не обладала общей четкой структурой, пользовалась безусловным авторитетом на протяжении практически всего XX века в японской фольклористике и только в последние десятилетия начала подвергаться переосмыслению. Большую роль в критику устоявшихся воззрений внес Комацу Кадзухико (род. 1947) – ведущий специалист по изучению актуальной мифологии японцев в настоящее время. В качестве собирательного термина он, подобно Иноуэ, использовал слово «ёкай» и полагал, что в самом широком определении ёкай – это существа, явления и феномены, которые можно описать как мистические или сверхъестественные. Особенностью именно японской низшей мифологии Комацу считает то, что она превратилась в уникальную культуру, которую он называет «культура ёкай».
Подобно Янагита, по мере изучения у Комацу возникало несколько вариантов толкования природы ёкай, включая и эвгемеристический. В книге «Теории о идзин» (Идзин рон, 1985) Комацу рассматривает особый тип ёкай – идзин (люди, приходящие из других миров) и идзин-гороси – их убийство. Он приходит к выводу, что за легендами, описывающими этот процесс, могли скрываться настоящие преступления, которые затем обрастали сверхъестественными подробностями, и интерпретирует некоторые типы ёкай как чужаков, включая в эту категорию париев, образ которых закреплялся в фольклоре.
После этого Комацу обращается к принципиально иной, универсалистской трактовке термина «ёкай». В англоязычном предисловии к книге «Введение в культуру ёкай» (Ё: кай бунка ню: мон, 2006) Комацу использует слово «ёкай» как всеобъемлющий термин до такой степени, что он применяет его к тем явлениям, которые были описаны в источниках еще до возникновения самого термина, как, например, актуальную мифологию эпохи Хэйан[42]. Однако и в японском тексте он расширяет толкование слова «ёкай», применяя его для обозначения персонажей актуальной мифологии всего мира, что заставляет его использовать временами уточнения типа «культура японских ёкай» (нихон-но ё: кай бунка)[43].
В целом все феномены, относящиеся к ёкай, Комацу делит на три категории: ёкай как события (дэкигото тоситэ-но ё: кай), ёкай как сверхъестественные существа (тё: сидзэнтэки сондзай тоситэ-но ё: кай) и ёкай, получившие воплощение (дзо: кэйка сарэта ё: кай). Само развитие культуры ёкай Комацу видит в эволюции этих групп.
Изначально большинство ёкай представлялись в виде инцидентов или происшествий – необъяснимых звуков или ощущений, которые обладали возможностью вредоносного влияния, однако визуального облика у них не было. В качестве иллюстрации Комацу приводит случай с адзуки-арай: «К примеру, житель деревни уходит в горы, чтобы выжечь уголь или землю под посадку, и ночует там в горной хижине. Посреди ночи он слышит доносящийся от протекающей рядом реки повторяющийся странный звук, который смешивается с плеском воды. На следующий день он приходит на место, откуда доносился звук, но ничего там не находит. Подобное странное происшествие местные жители называют “адзуки-арай” (“промывающий бобы”), поскольку оно напоминает о звуке во время промывания бобов адзуки»[44].
Следующий шаг, по Комацу, – это персонификация ёкай, трансформация их из странных случаев и происшествий в неких сверхъестественных существ. Тот же адзуки-арай в результате из мистического феномена превращается в мифологического персонажа с таким же именем. Необъяснимый звук, напоминающий промывку бобов, начинает толковаться как работа определенного существа. Большая часть этого процесса, по Комацу, происходит в эпоху Эдо (1603–1868), а до этого персонифицированных ёкай было немного: тэнгу, животные-оборотни и óни.
Третьей стадией, по Комацу, является процесс наделения ёкай визуальной составляющей. Он указывает, что сама традиция началась только в период Средневековья, до этого на изображение ёкай действовало табу, связанное, как он полагает, с тем, что такое изображение может приносить несчастье. В период Камакура появляются изображения персонифицированных ёкай на свитках эмаки, представляющих собой иллюстрированное повествование в виде ряда сцен, разворачивающихся в горизонтальном формате, и дальше сама традиция визуальной культуры начинает порождать новых персонажей. В период Муромати на свитках эмаки появляются цукумогами – выброшенные предметы, ставшие ёкай, и постепенно традиция их изображения становится настолько популярна, что порождает огромное количество вариаций самых разных персонажей-ёкай, существующих только в визуальном искусстве, без поддержки текстов или нарративов. Появляется целый жанр «хякки ягё: эмаки», который изображает парад многочисленных демонов, марширующих, согласно поверью, по городским улицам в летние ночи. Различные варианты ёкай, таким образом, оказываются вписаны в культуру только благодаря воображению художников. Таким образом, у Комацу ёкай – невидимая вредоносная сила – сначала обретают свою индивидуальность, а уже позже – свой собственный различимый образ.
Комацу указывает, что сам термин «ёкай» был большей частью популяризирован Иноуэ, однако полагает, что его ближайший синоним – бакэмоно – не такой уж и синоним: Комацу считает, что слово «бакэмоно» не может вместить в себя все три большие группы, которые он выделил ранее. Говоря далее о бакэмоно, Комацу критикует Эма Цутому, указывая, что тот ограничивает предмет своей книги описаниями только бакэмоно, которых он характеризует так: «а именно, что он остановил свое внимание на изменяющих свой облик (бакэру), подобных ёкай сущностях (ё: кайтекина сондзай), и в особенности на тех сущностях, которые приняли другую форму и обладают способностями к изменению собственного облика, другими словами, бакэмоно»[45]. Сам Эма не выделял бакэмоно как отдельный зонтичный термин, используя просто глагол «бакэру» в качестве обозначения момента превращения одной формы в другую. Чисто формально, как «сущность, способная изменять форму», это слово действительно может быть применено к ёкай-хэнгэ Эма, однако последний, как мы писали выше, включал туда и духов мертвых, а Янагита, например, полагал, что термин «бакэмоно» на них не распространяется.
Позже Комацу еще раз комментирует термин «бакэмоно». Он указывает, что слово «ёкай» не употреблялось в повседневном обиходе вплоть до эпохи Мэйдзи, однако попытки подобрать ему полный синоним обречены на неудачу. Первое, что приходит ему в голову, – это слово «бакэмоно», однако «в прошлом “бакэмоно” применялось к лисам, которые превращались в людей, и другим живым созданиям (икимоно), которые обладали мистической силой изменять свою форму»[46]. Далее Комацу, ссылаясь на исследование Адама Кабата, утверждает, что в период Эдо это понятие начало включать в себя также и юрэй, вероятно, таким образом координируя свое понимание этого понятия с терминами «ёкай» и «хэнгэ», описанными Эма, и разрывая традицию в фольклористике, идущую от Янагита, который как раз полагал, что юрэй – это отличный от бакэмоно вид персонажей.
Подводя некоторые итоги, нужно заметить, что Комацу во многом возвращается к идеям Иноуэ Энрё. Он уходит от противоречий у Янагита с бакэмоно и юрэй, от четких определений Эма о ёкай и хэнгэ и использует понятие «ёкай» просто для всех персонажей и явлений, которым можно приписать сверхъестественное происхождение. Так же как и Иноуэ, распространяя это определение не только на сущности, но еще и на феномены, причем именно на последний аспект, на инциденты, Комацу делает особый акцент. Любопытно, что этика викторианской науки также не чужда Комацу: универсализм, свойственным ученым XIX века, проявляется у него в стремлении распространить понятие «ёкай» на весь мир, что любопытным образом коррелирует с тем, что его схема эволюции ёкай подтверждается только на материале японской культуры.
Толкование ёкай прошло длительную эволюцию в работах японских фольклористов, однако неизменным оставалось одно – ёкай считали способом познания реальности, ключом к культуре прошедших эпох. Исследователи неоднократно обращали внимание на культурный контекст, в котором функционируют верования о ёкай. В конечном итоге эволюция их взглядов привела к рассмотрению ёкай как культурных феноменов и продуктов человеческого воображения, изучение которых по сути является изучением создавшего их общества.
Методологию работы японских фольклористов мы обсудили, а теперь посмотрим, какие свидетельства о ёкай они использовали.

Рисунок 7. Гэкко. Тэнгу, курящий на воротах-тории (1890)