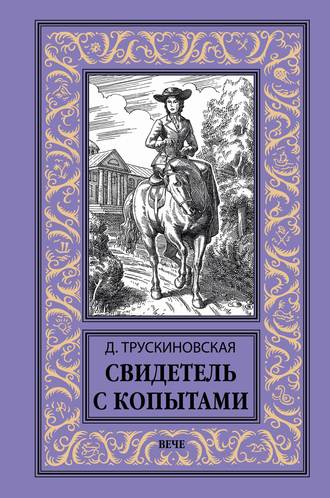
Далия Трускиновская
Свидетель с копытами
Но переводить ценное снадобье на вора княгиня вовсе не желала.
Болящий хватался руками за виски и даже постанывал. Когда она неожиданно обратилась к нему по-немецки – ответил не сразу, но вполне внятно. Пришедший посидеть с другом господин Эккельн перевел беседу на русский язык, что показалось княгине подозрительным; она стала поминать известных в столице знатных господ и даже сказала несколько фраз по-французски; по глазам гостя было видно, что он плохо разумеет, о чем речь. Хотя его любезное обхождение показывало господина воспитанного, не дикого помещика из Заволжья, который едва читает по складам. Словом, основания для беспокойства имелись.
Дворня получила строжайший приказ – в переговоры с гостями не вступать, что им нужно – объявят ключнице Агафье. Когда ключница сменила хозяйку у постели болящего, княгиня пошла к себе в кабинет и велела подать туда котлетки, ломоть хлеба с икрой, другой – с вяленой осетриной, да кофей. Не успела приступить к трапезе – прибежал казачок Васька с приятнейшим известием: кобыла Милка входит в охоту, и очень скоро будет готова принять жеребца.
– Беги, отыщи мне Фроську! – велела княгиня.
Фроську нашли не сразу – в коровнике она теперь не каждый день появлялась.
Когда она прибежала, княгиня спросила:
– Точно ли у тебя рыбка на крючке?
– Точно, матушка-барыня.
– Докладывай.
– Их четверо, кроме дяди Степана, ну так он женат, да у него и кума есть, бегает к нему на конюшню, он ее водит на сеновал. Ему дай Боже с этими двумя управиться. Так одному детине меня подавай, другому, сдается, лишь деньги надобны, третий на мне хоть сейчас жениться готов, у четвертого невеста, да он не прочь… Извертелась я, матушка-барыня!
– Тому, кто до денег охоч, обещай сто рублей, как я говорила. Начнет жаться да охать – полтораста! Поняла? И как рыбка клюнет – подсекай. Да поскорее! Пусть он сам придумает, как с теми тремя управиться. Поняла?
– Все поняла, матушка наша… да боязно…
– Эк когда спохватилась! Ступай! Ты меня знаешь – наградить сумею.
О награде княгиня уже думала. Если конская свадьба окажется успешной, то орловские конюхи болтать не станут, ибо рука у графа тяжелая, а вот Фроська может сдуру похвалиться своей ловкостью. У княгини была в столице знакомица-француженка, хозяйка модной лавки. Если отвезти к ней шалаву Фроську, приставить девку к мытью полов и тасканию дров, то получится, что девка отпущена на оброк, и ту часть ее жалованья, что служит оброком, княгиня будет выбирать в лавке лентами и пряжками – уму непостижимо, как стремительно дворовые теряют пряжки от парадных туфель… Для деревенской девки, привычной к тасканию тяжестей, служба в лавке – вроде отдыха, а там бывают кавалеры, лакеи из богатых домов; глядишь, и найдется дуралей, посватается… да она не дура, подцепит там женишка, который знать не знает о ее сельских шалостях…
Выпроводив малость растерявшуюся Фроську, княгиня пошла на конюшню – проведать Милку. В манеже у конюшни она обнаружила внучку, скакавшую по кругу коротким галопом. Лизанька уже научилась держать Амура в сборе – или же Амур, идя в правильном сборе, учил Лизаньку верным ощущениям на этом аллюре. Мистер Макферсон кое-как объяснил, что ученицей доволен и скоро будет, как уговаривались, ее водить по лесу, по тропам с опасными поворотами. Увидев бабушку, Лизанька заставила коня сделать вольт и подъехала к княгине. Та прямо залюбовалась ловкостью внучки.
– Бабуленька, голубушка! – воскликнула внучка удивительно громко. – Я чуть не час каталась, и мистер Макферсон мною доволен! И вот я – в мужском наряде!
– Жизненочек мой, цветик! – ответила княгиня. – Уж как ты мне угодила! Чего хочешь проси – сережек новых, или блондов, или туфелек, или хоть… хоть клавикордов проси, велю из Москвы доставить, наши совсем расстроены. Нот велю привезти, модных картинок!
– Бабуленька, не нужно картинок… Можно, я к гостям пойду? Не одна – с Агафьюшкой? Вдруг у них в чем нужда?
– Вот оно что… Можно, Лизанька! – сразу позволила княгиня, имея на уме: девица, непривычная к мужскому обществу, чего доброго, испугается галантностей Орлова-Балафре и погубит такой замечательный план. Пусть привыкает потихоньку. Ведь мистера Макферсона она явно мужчиной не считает, если расхаживает при нем в штанах. Подозрительные людишки, ну да ладно. Агафья – не дура, ничего лишнего не позволит.
Игнатьич съездил к кузине Прасковье, привез лекаря с целым сундучком микстур. Лекарь исследовал страдальца, объяснил, что тот ослаблен от скверной дороги и сердечного недомогания, велел выпаивать крепким бульоном, а смертельных хвороб не обнаружил. Он уехал, обещав составить подходящие микстуры – и действительно, кузина Прасковья прислала их с верховым.
Через день больному настолько полегчало, что он был готов двигаться в дорогу.
Гости долго раскланивались, благодарили, благословляли и с утра пораньше двинулись в путь – Агафья нарочно велела дворовому парнишке забраться на дерево и смотреть, куда покатили. Покатили они в сторону Москвы, и Агафья вздохнула с немалым облегчением.
Но, пока княгиня плела интригу, чтобы поймать в сети Гименея неуловимого до сих пор графа Орлова, пока готовила к подвигам внучку да пропадала на конюшне, пока налаживала свадьбу жеребца Сметанного и кобылы Милки, ее младшая дочь строила планы побега.
Пьяницы бывают порой очень хитры, и хитрость в них сочетается с полным безрассудством. И муж, и мать не догадались забрать у Аграфены золотой нательный крест, выдав взамен хоть оловянный. Она знала, что в трактире и в любом кабаке этот крест охотно примут – а там хоть трава не расти. Все ее тело, и сердце, и душа требовали выпивки.
Аграфене было тридцать восемь лет – возраст, когда еще не все потеряно. Она еще могла нравиться мужчинам. И она с самого начала составила план – убежав из усадьбы, продать крест, отвести душеньку хоть на почтовой станции с пьяными ямщиками, а потом пробираться в Москву. Были у нее там подружки, еще не совсем утратившие человеческий образ из-за пьянства, с виду – почтенные жены и матери, пившие втихомолку, а родня тоже об этом не орала во всю ивановскую. Кто-то из подружек мог бы на первых порах приютить, а дальше – как Бог даст. Может, сыщется богатый человек и захочет жить с Аграфеной. Дважды побывав замужем, она знает, как угодить сожителю.
Аграфена попросила пяльцы и шерсть – собралась вышивать подушку. Княгиня понимала, что дочь от скуки может и умишком тронуться, поэтому распорядилась выдать ей весь приклад, но чтобы не оставлять одну – пусть с ней сидят или Николка, или Марфутка, а проверять пусть приходит Агафья.
Непутевая доченька не возражала.
Оставшись одна, она глядела в окошко, выходившее на задний двор, видала справа сад, видела кусты зацветающей сирени и большую черемуху, под которой играла в детстве. Она изучала все, что могло бы способствовать побегу. Вслед за безумной затеей выбраться через окно на крышу родилась иная – раскачавшись на спущенной из окна веревке, перескочить на дровяной сарай, а с него спрыгнуть в сад. Аграфене отродясь не приходилось проделывать таких кундштюков, но она была уверена, что справится. Как многие пьющие женщины, она отощала и полагала, что весит теперь не более ангела небесного.
Кроме того, она очень надеялась, что кавалеры, которых она сверху видела за беседкой и днем, и поздно вечером, сумеют ей помочь, ежели их хорошенько попросить.
Настал день, когда ей удалось утащить из корзины с рукоделием, которую уносила Марфутка, нарочно положенные сверху и прикрытые лоскутом шелка ножницы.
Оставалось быстро, пользуясь лунным светом, нарезать простыни, свить веревки и высадить окно. А из подходящей полоски полотна изготовить подвязки – нелепо было бы пускаться в бега со спущенными чулками.
Глава 5
– Ваше сиятельство, егеря доносят – кто-то в лесу балуется, – сказал старый камердинер Василий. – Стреляют непутем. Вон там…
Он указал в окошко на далекий лес.
– Поди, госпоже Чернецкой дичи захотелось, – сообразил Орлов. – Не обеднею, коли в моем лесу ей дюжину перепелов подстрелят.
Василий хотел было напомнить, что такую мелочь пернатую, как перепела, лучше ловить бесшумно в силки, но промолчал. Барин был сильно озабочен своей новокупкой, так лучше не противоречить.
Сметанный в дороге держался неплохо, но прибыв на постоянное местожительство, заскучал. Не то чтобы болел – ни на что не жаловался, хотя его по-всякому проверяли, и расковали, когда Степану вдруг показалось, что копыта греются, и грудь жали, и бабки прощупывали, и бурчание брюха слушали, и целый консилиум устроили по поводу сена и свежей травы, а жеребец стоял понурый.
С каждым днем становилось все теплее, миновали черемуховые холода, и Орлов распорядился считать Сметанного отдохнувшим после дороги и понемногу, очень бережно, вводить его в работу. Вышел очередной спор – гонять ли в манеже, где безветренно и тихо, или выводить на прямую дорожку. Орлов подумал и решил: в манеже лошадь можно незаметно сплечить, а поскольку Сметанному предстоит бегать в запряжке, то гонять по дорожке, нарочно для того устроенной. Но не слишком усердствовать – вечером, когда воздух уже довольно прогрелся, закладывать коня в дрожки и для начала неторопливой рысцой – четыре версты, две туда, две обратно. В дрожках – Ерошка, на поддужной лошади – Фролка, и Егорка с Матюшкой сзади, вооруженные плетками и карабинами – мало ли что.
Потом граф распорядился прибавить еще две версты. И каждый день навещал Сметанного в стойле или в загоне, осведомлялся, проеден ли корм, не воротил ли жеребец морду от кормушки. Если случалось, что граф приходил перед тем, как жеребцу задавали его дневную порцию овса, то сам сперва кормил из горстей, мог угостить и кусочком мелюса[2].
Сметанный его уже признавал, уже слышал издали шаги, но до той дружбы, что возникает между конем и его человеком, было пока далеко. Сметанный считал своим главным человеком Степана, понемногу привыкал к Фролке с Ерошкой. Для Фролки был праздник, когда жеребец боднул его лбом в плечо, боднул осторожно, деликатно, а Ерошка доложил: принес Сметанному воду, а тот взял губами за край рубахи и дважды дернул.
– Ты ко мне со всем почтением, и я к тебе со всем почтением, – так перевел Ерошка это действие на человеческий язык.
Когда граф был в конюшне или в загоне, туда к нему прибегали со всяким делом: садовник приносил план новых боскетов[3] в огромном саду, замечательных боскетов на склоне, к которым вели лестницы, архитектор (свой, из крепостных) предлагал на выбор рисунки беседок и павильонов, чтобы было летом где сидеть с гостями, пить чай и глядеть на клумбы с лабиринтом из подстриженных кустов. Заведовавший счетами немец, которого в Острове звали Генрихом Федоровичем, был взят на службу за отменную память всех расходов и тоже постоянно являлся со своими бумагами. Туда же бежали и псари, и капельмейстер рогового оркестра, и музыканты с нотами, и фейерверкер с новыми затеями. Орлов желал устраивать пышные приемы, с утра – охота в ближних лесах, ближе к вечеру – роскошный обед на сто двадцать кувертов, с музыкой, с огненной потехой. Лето было долгожданным временем года.
Старый камердинер Василий именно в загоне его и отыскал:
– К вашему сиятельству их сиятельство.
Это означало – приехал братец, непутевый Гришка. Упустить сдуру прекрасную женщину, которая многое прощала, – это еще нужно было умудриться. Надо отдать императрице должное – она немало терпела Гришкиных выкрутас, включая измены, пока не решилась с ним расстаться. Их расставание вызвало в столице не то что море, а океан сплетен. Как раз тогда случился в Москве чумной бунт, и Екатерина послала Григория Орлова усмирять москвичей и наводить порядок, а люди все поняли по-своему: отправила с глаз долой, чтобы подхватил чуму и там, в Москве, помер. Но Григорий с заданием отлично справился – бунтарей укротил, открывал больницы и богадельни, дал москвичам работу. Тогда всем показалось, что императрица вновь приблизит его к себе, но место было занято – она предпочла Григория Второго, Потемкина.
– Где брат?
– Изволят сидеть в гостиной, спросили венгерского вина…
– Хорошо, иду.
Похлопав Сметанного по великолепной шее, Орлов обратился к Степану:
– Вечером вели проездить его получше. Спешить некуда, но и резвить понемногу нужно. Хочу на свои именины устроить кавалькаду и бега, сам буду Сметанушкой править. Вся Москва прибежит смотреть, на что столь огромные деньжищи потрачены!
Он рассмеялся и пошел в дом, Василий поспешал следом. В сенях кликнули лакея Митрошку, он стянул с графа грязные сапоги, Василий подал туфли и сам их застегнул.
Поднявшись в гостиную и пройдя в диванную, Алехан Орлов увидел Гришку Орлова. Тот развалился, раскинулся всем телом, и задумчиво смотрел в окно сквозь пустую мутную бутылку.
– Добро пожаловать, – сказал младший брат. – Я думал, ты раньше объявишься. Неужто не хотел посмотреть моего жеребчика?
– Какой жеребчик?! – с отчаянием вопросил Гришка. – Тебе хорошо, знай всякими приятностями себя окружай! А я… а у меня…
– Что стряслось?
Стрястись могло всякое – при такой-то буйной натуре.
– Братец, я влюбился!
– Только-то?
– Братец, ты не понял! Я в кузину Катиш влюбился!
– Я думаю, ты ваньку валяешь, – прямо ответил граф. – Слухи такие ходят, что волосы дыбом встают. Ты-де ее совратил, и мертвых младенцев она от тебя нарожала. Молчи, сам знаю, что брехня. Непременно тебе надобно, чтобы страсти кипели. Она же еще дитя.
– Как дитя? Ей уж восемнадцатый год.
Младший брат сел на диван напротив старшего.
– Брось, Гришка, – сказал он, – не морочь девке голову, не порть ей репутацию. Ты же все равно на ней жениться не сможешь. Она тебе – настоящая кузина, не московская.
Он имел в виду московский способ родниться, при котором сводную троюродную сестру тетки двоюродного брата без всякого смущения называли кузиной, и это всех устраивало. А Екатерина Зиновьева была такой родственницей Григория, что ни один поп не взялся бы венчать – матушка братьев Орловых была родной сестрой Катенькиного отца.
– Кто кому голову заморочил?! – в отчаянии спросил Гришка. – Думаешь, я – ей? Да она еще в куклы играла, когда в меня влюбилась! Ей тогда тринадцать было!
– А ты и рад стараться! – младший брат не верил, что старший якобы изнасиловал девочку и тем к себе привязал, однако и невинным ангелом его не считал. Старший понял, о чем речь.
– Христом-Богом клянусь, я ее не трогал! Целовал только…
– В уста?
– В уста…
– Поросенок ты, братец.
– Кто ж знал, что она так привяжется? Ведь прямо сказала: или ты, или никого не надо! Я сам думал – баловство одно, какой кузен с кузиной не целовался? А оно вон как вышло… Алехан, поверь – до сей поры я не знал, какая такая любовь бывает! А ее – полюбил… Полюбил, понимаешь? И буду добиваться, чтобы нас повенчали!
– Не повенчают.
– Повенчают! Государыне в ноги брошусь!
– Да что тебе государыня – Священный синод? Она против закона не пойдет.
– Братец, ты умный, придумай что-нибудь!
Ум и решительность Алехана Орлова не раз выручали государыню, но идти против Священного синода – тут требуется большая ловкость.
– На сколько ты ее старше? – спросил граф.
– Не все ли равно?
– Тебе сорок два года, Гриша, опомнись. Чуть не четверть века разницы, оно сейчас ничего, а потом опасно. Найди другую невесту.
– Уже не могу…
– Что ты натворил? Она в тягостях?! – воскликнул младший.
– Нет еще, я ее пальцем не тронул, а она требует. Коли любишь, говорит, пусть меж нами будет все, а людского суда не боюсь, так и говорит!
– Дурочка она… Пойдем, посмотришь, какого мне красавца из Турции привели, ты такого еще не видывал.
– Оно и видно, что мы родня, братец. Тебе самого дорогого в свете коня подавай, мне – девицу, на которой повенчаться невозможно! А она говорит – коли явится с прибылью, все дядья и тетки за нее горой встанут, добьются, чтобы нас повенчали.
Младший Орлов вздохнул.
– Дитя она еще… Держись от нее подалее, может, твоя дурь и пройдет.
– Братец, я ведь почему приехал?
– Сметанного посмотреть? В грехах покаяться?
– Катенька велела. Когда она при дворе, за ней присмотр, каждый шаг всем известен, когда в Конькове – тоже присмотр. Хоть она и сама себе теперь хозяйка, да у них в Конькове полно баб, наедине нас не оставят. И вот она придумала, чтобы нам тут встретиться. Чтобы сперва я приехал и все тебе объяснил, а дня через три, через четыре, и она – верхом, в мужском наряде! Ехать-то от Конькова до Острова – верст три десятка, не более…
– Оба вы с ума сбрели! – возмутился Алехан Орлов. – Сводником я еще не был! Вставай, пойдем жеребца смотреть, а про твои шашни и слушать не желаю.
Он понял замысел этой влюбленной пары: в Острове, где каждый житель только и ищет случая угодить графу Орлову, легко уговорить священника и причт Преображенского храма и тайно повенчаться. Покровительствовать этой затее он не желал. Держать ответ перед Священным синодом – соответственно, тоже не желал. А любовь… Любовь, коли сразу дать ей укорот, побесится и угомонится. Главное – отнестись к ней так, как к жеребчику-неуку, без всяких душевных тонкостей.
Младший брат не ведал того кипения крови, которое так усложняло жизнь старшему.
Волей-неволей Гришка поплелся за младшим братом, оценил стати гулявшего в загоне Сметанного, потом Василий пришел за ними, чтобы доложить: кушанье подано.
Что это такое было, обед или ужин, они сами не знали, а за столом сидели часа четыре, не менее. И былое вспоминали, и старший брат пытался достучаться до каменного сердца младшего брата. Когда оба по случаю встречи малость злоупотребили рейнвейном, бургундским и португальским винами, их приятную беседу нарушил Василий:
– Ваше сиятельство, два путника на ночлег просятся.
– Вели уложить на сеновале, да присмотри – нет ли у них трубок с табаком.
– Ваше сиятельство, они оба – немцы.
– Бродячие немцы? – Алехан расхохотался. – Ладно, Бог с ними, немец тоже человек. Гляди-ка, темнеет. Пусть им с людской поварни чего ни на есть дадут. Чего тебе, Степан?
Конюх, приставленный к Сметанному, ворвался в столовую и рухнул на колени.
– Ваше сиятельство, Сметанушка пропал!
– Как – пропал, что ты врешь?
– Я отправил, как вы приказывать изволили, Фролку с Ерошкой – проездить Сметанушку. При них – Егорку с Матюшкой. И как чуял – пошел встречать! Слышу – там, в лесу, стреляют. Думаю – что за охота в потемках? Не к добру! И вот, ваше сиятельство, нет их, и нет их, и нет!
– Где лес, а где дорожка, по которой велено жеребца проездить?! – граф вскочил. – Степка, беги, подымай всех! Седлайте коней, заправляйте фонари, едем искать!
Народу на конюшнях трудилось немало, все – молодые сильные парни и мужики, ловкие наездники. Десяти минут не прошло – образовался отряд, с которым хоть на прусского короля войной идти, хоть на шведского: все вооружены, все готовы к преследованию и бою. Братья Орловы тоже сели на коней.
– Не может быть, чтобы в трех шагах от моего дома коня увели, – сказал Алехан. – Наглость неслыханная! Тут что-то не то…
– Но дорожку осмотреть надо, пока совсем не стемнело, – заметил Гришка. – Только там и могут быть следы. Ну, с Богом!
– Следы? Ты прав! Ивашка, Петруха, ведите Догоняя, ведите Хватая, Даренку ведите!
Он знал поименно всех лучших псов своей псарни.
Собакам дали понюхать имущество Сметанного – попону, недоуздок, щетку со скребницей. Их, доведя до дорожки, пустили вперед, но псы следа не взяли, только скулили, не понимая, чего от них хотят.
Молодые конюхи пронеслись по дорожке до конца, вернулись с донесением: пусто!
– Да что он, по воздуху улетел? – возмутился граф Орлов. – Не Пегас, чай! Вот что – собак нужно пустить от самой конюшни.
– Да там все уже затоптано, – напомнил старший братец. – И куда, кроме дорожки, могли бы твои олухи погнать Сметанного?
– Может, его что испугало, и понес? – предположил младший брат. – Птица из кустов вылетела? Так… Сейчас всех своих поселян на ноги поставлю! Пусть берут факелы, пусть прочесывают все окрестности! Кто найдет след – тому пять рублей, все слышали? Кто коня приведет, тому – пятьдесят!
Но тратить деньги графу не пришлось. Час спустя его отыскал на дороге молодой лакей Павлушка, Васильев выученик.
– Ваше сиятельство, Сметанный сыскался! – закричал он издали, еле управляясь с лошадью. – Ваше сиятельство, сам на конюшню пришел!
Граф помчался домой.
Сметанный стоял у ворот загона, от людей шарахался, всхрапывал, часто дышал, никого не подпускал. Степана, хорошо ему знакомого, не желал признавать. Выпрячь себя из дрожек не позволял.
– Слава Богу. Велю благодарственный молебен отслужить, – сказал граф, соскакивая с кобылы. – Сметанушка, голубчик, умница! Сам дорогу домой отыскал! Степа, нужно на него хоть попону накинуть. Где-то бегал, вспотел, не простыл бы.
– Сметанушка, я это, гляди – я! – Степан, пытаясь подойти к жеребцу с попоной, чуть не плакал. – Сметанушка, дитятко!
– Дай-ка я, – непутевый Гришка, спешившись, пошел к коню. – Сметанушка!
– Перестань, не дури, – одернул его старший брат. – Он тебя еще не знает.
– Погоди ты… Сметанушка, красавец ты наш… Эй, кто-нибудь, сбегайте за мелюсом!
Вскоре в Гришкиной ладони лежал хорошая горсть мелко наколотого желтого мелюса; человек этот сахар низшего разбора есть не станет, разве что совсем небогатый, а кони его уважают. Протягивая Сметанному лакомство, Гришка подходил мелкими шажками, объясняя коню, что он, конь, самый лучший, самый славный, самый умный. Дивное дело – Сметанный слушал, не возражал и не пятился, не прял ушами. Как-то его голос старшего братца заворожил и успокоил. Правда, мелюс жеребец взял не сразу.
Потом конь позволил приблизиться и Степану. Степан распряг его, вывел из оглобель и велел ставить дрожки в каретный сарай. Тут-то и оказалось, что Сметанный привез гостью.
В дрожках лежала женщина. Никому и в голову не пришло осветить их фонарем, потому женщину и не заметили. На ней было платье, какое носят дома дамы, значит – не крестьянка, не мещанка. И была она без чувств. Когда стали ее трясти, обнаружили, что ранена в плечо и потеряла много крови.
– Дрожки – отмыть, даму перенести в желтую спальню, – распорядился граф Орлов. – Василий, ты в ранах смыслишь – раздень, пойми, что там с ней, перевяжи. Сметанушка, где ж ты этакую персону раздобыл?
– Сказывал я, ваше сиятельство, что в лесу стреляли! – вмешался Степан.
– Так где лес и где дорожка? – граф задумался. – И где, желал бы я знать, егеря и Ерошка с Фролкой?!
Он подошел к даме, которую, чтобы донести до спальни, уложили на носилки из попон и оглобель.
– И чья такова?.. Я ее, кажись, впервые вижу… Не обойтись без полиции… Ну-ка, посветите…
Фонарь поднесли совсем близко к лицу женщины.
– Что за страшная старуха, – сказал Орлов-старший. – Ей лет за полсотни, я чай…
– Менее. Голодом ее, что ли, морили? А платье-то бархатное… Василий, срежь с нее платье, да баб позови – пусть обмоют, да вот что! Пошли парнишку за Кабошкиным!
Кабошкин был отставной солдат, который прижился в Острове; он, нахватавшись на прусской войне всяких врачебных знаний, пользовал местных жителей и, как шутил граф, был лучше лекаря-немца: брал не в пример меньше, а никто у него еще не помер.
– Ваше сиятельство, Гнедаш! Гнедашка вернулся! – заголосили конюхи. – Держи, держи его!..
Еще один из пропавших коней отыскал дорогу на родную конюшню. Гнедаш был под егерем Матюшкой и, судя по всему, не так напугался, как Сметанный.
– Осмотреть его! – велел граф. – Ну что за денек! Может, хоть что-то поймем.
Гнедаша подвели и стали расседлывать. Тут и оказалось, что седло в крови.
– Где ж тебя, черта, носило? – спросил его граф. – Где Матюшку потерял?
– Ваше сиятельство, и повод – в крови, где руками браться!
– Кто-то вздумал увести Сметанного, а егеря дали отпор, но кто? – спросил старший братец. – Кто-то следил и знал, когда его проезжают.
– Я бы на старуху Чернецкую подумал, да она коней любит и ни за что бы стрельбу не затеяла там, где можно поранить лошадь, – ответил младший братец. – Да и не на дорожке было побоище, сам знаешь, там следов не нашли, а стрельба шла в лесу. Что-то тут неладно. Ну вот что, братцы. Если наши молодцы убиты – им уж не поможешь. Искать ночью в лесу раненого, что в беспамятстве, невозможно. Светает рано – вот, как только на востоке посветлеет, всем – в седло и на поиски. Пока – отдыхать. Степа, ты будешь в стойле со Сметанным, хоть сутки с ним разговаривай и утешай, но чтоб конь успокоился.
– Алехан, я, кажись, догадался! – воскликнул старший братец. – Продать Сметанного у нас, в России, можно разве что в дикие сибирские украины, да он там никому не нужен. Коня хотели увести, чтобы продать за границей! Контрабандисты бы его перекрасили, они на это мастаки. И вынырнул бы он лет через пяток – когда в каком-нибудь Вюртенберге вдруг появились бы арабы изумительных статей! Скажи, тут у тебя, в Острове никакие иноземцы не шлялись, не вынюхивали?
– Немцы у меня свои, здешнего производства… Француз-танцмейстер свой… Сегодня разве что…
– Они!
Граф вспомнил двух немцев, что попросились на ночлег.
– А в чем смысл? – спросил младший брат старшего. – Ладно бы они заранее пришли, все разведали и убрались. А так?..
– Не знаю, Алехан, но с этими немцами дело нечисто! Вели их привести!
– Я лучше велю запереть их в погребе. Завтра допросим.
– А коли они скажут, что за интрига сплелась вокруг Сметанного? Коли скажут, где твоих егерей и конюхов искать? – не унимался младший.
– Будь по-твоему.
Двух заспанных немцев привели с сеновала. Спросили о прозвании – один назвался Шульцем, другой Фельдманом. Спросили о цели странствий. Немцы, вставляя в свою немецкую речь немало русских слов, доложили – пробираются из Москвы в Коломну, где у Шульца замужняя дочь с детьми. Проверить сие было невозможно, и потому Гришка твердо сказал:
– Врут!
Когда они на вопросы, не подослал ли их кто разведать о Сметанном, ответили полным непониманием, Гришка сказал то же самое:
– Врут!
Графу тоже поведение этих людей казалось все более подозрительным, и он велел отвести их в погреб – пусть сидят до того дня, когда он соблаговолит отправить их в Москву к обер-полицмейстеру Архарову, тот всякого мошенника насквозь видит.
Услышав эту угрозу и уразумев, что им предстоит просидеть под запором дня три, а то и четыре, немцы переглянулись и ответили вразнобой:
– Как вам будет угодно.
Когда их увели, младший братец сказал старшему:
– А по-моему, они даже рады, что в погреб попали. Может, от кого прячутся? А тут, у тебя, они будут безопасны.
– Вот пусть Архаров и разбирается, чему они рады, чему не рады. А нам и без того забот хватит.
Он имел в виду странную историю со Сметанным, но подумал и о грядущем визите Катеньки Зиновьевой. И тут же у него родилась мысль, как сему визиту помешать.
У графа имелась красиво вычерченная карта его владений. Он расстелил эту карту перед внутренним взором, явственно увидел все пути, какими можно подъехать к Острову, и усмехнулся. Пожалуй, смущать островского попа Гришкиными затеями не придется…







