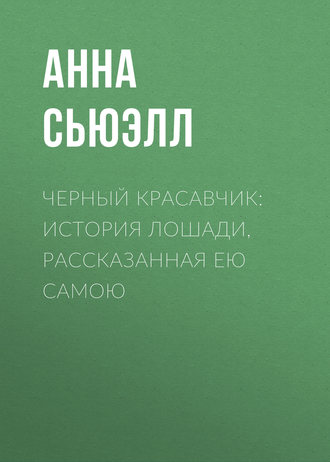
Анна Сьюэлл
Черный Красавчик: история лошади, рассказанная ею самою
XXV. Искалеченный, я иду под гору
Когда мои ноги зажили, меня выпустили на траву на месяц или на два. На моем маленьком лугу не было никого, кроме меня. Хотя мне было хорошо на свободе и на мягкой, сочной траве, но все-таки я скучал, так как я привык к обществу. Особенно мне недоставало Джинджер, с которой я так подружился. Часто, заслышав лошадиные шаги, я ржал, но не получал никакого ответа. Наконец однажды утром ворота отворились, и на лужок впустили другую лошадь. Какова была наша радость, когда мы узнали друг друга: это была Джинджер! Человек, приведший ее, снял с нее недоуздок и оставил Джинджер со мной на траве. Недолго я радовался, однако. Я скоро узнал, что Джинджер привели сюда не для удовольствия, а вследствие неосторожной езды, испортившей ее.
Граф Георг был молод и беспечен; он не слушался ничьих советов и ездил сколько и как ему вздумается, не заботясь о своей лошади. Раз он захотел участвовать в скачках, и, хотя конюхи говорили ему, что Джинджер без того утомлена, он сделал по-своему; Джинджер, горячая и самолюбивая лошадь, не захотела отстать от других; она напрягла последние силы и пришла одной из первых, но ее легкие пострадали и спина тоже, потому что ездок, граф Георг, немало весил.
– Вот мы с тобой и пропали во цвете лет и сил, – заключила Джинджер свой печальный рассказ. – Тебя погубил пьяница, меня – дурак.
Мы оба чувствовали, что мы уже не те, что были. Но все-таки мы радовались друг другу. Мы не скакали и не резвились, как бывало; зато мы щипали траву рядом и вместе отдыхали. Нам случалось часами стоять в тишине липы, соединив наши головы.
Так прошло время до возвращения графской семьи из города.
Однажды граф пришел к нам с кучером Йорком. Мы узнали их и дали им подойти к себе. Они долго нас осматривали, граф казался очень недовольным.
– Триста фунтов стерлингов брошены на ветер, – сказал он. – Но что меня более всего огорчает, – это то, что сгубили лошадей моего друга, который надеялся, что они у меня найдут хороший уход. Джинджер надо еще на год оставить, – посмотрим, что с ней будет, а вороного надо сейчас продать. Очень жаль, но я не могу держать у себя лошадь с такими коленями.
– Да, ваше сиятельство, это, конечно, невозможно, – отвечал Иорк, – но его можно продать куда-нибудь, где не требуется особенно нарядного вида, а все-таки в хорошие руки, чтобы лошадь не мучили. Я знаю одного содержателя извозчичьего двора, который покупает хороших лошадей, хотя и бракованных, за невысокую цену. Он человек добрый, и лошадям у него живется недурно. Наш вороной не имеет пороков, его можно спокойно рекомендовать кому угодно.
– Так напишите этому человеку, Иорк, – сказал граф. – Главное, чтобы место было хорошее, за ценой я не стою.
Они ушли с этими словами.
– Итак, тебя скоро отсюда уведут, – сказала Джинджер. – Я теряю единственного друга. Как тяжело жить на свете!
Неделю спустя Роберт вошел к нам, надел на меня недоуздок и увел. Я не успел хорошенько проститься с Джинджер; я только мог заржать, уходя от нее, а она стояла у изгороди и провожала меня ржаньем, пока могла слышать мои шаги.
Меня купил тот самый хозяин извозчичьего двора, которому Иорк написал.
Мне пришлось ехать по железной дороге, что случилось со мной в первый раз. Это было некоторым испытанием моей храбрости. Однако, когда я понял, что со мной ничего плохого не делается, несмотря на пыхтение паровоза и тряску вагона, я успокоился.
Мое новое место жительства казалось недурным: стойло было удобное и кормили меня хорошо. Конечно, здесь было не так просторно и светло, как в графских конюшнях; стойла были построены покато, и так как меня привязывали к яслям, то приходилось все время стоять на покатом полу. Странно, как люди вовсе не думают о том, что лошадь может лучше работать, если она спокойно стоит в стойле. Но все-таки я скажу, что вообще мне жилось тут хорошо: уход и корм были исправные; хозяин наш был добрый и заботливый. Он содержал много экипажей, которые давал внаймы. Иногда его кучера выезжали с лошадьми, случалось же, что господа брали экипаж без кучера, желая править сами.
XXVI. Наемная лошадь и ее временный хозяин
До сих пор мною управляли только искусные руки настоящих кучеров. Теперь мне пришлось познакомиться со всякими людьми, потому что меня мог нанять любой желающий и править мною, как умеет.
Меня нанимали чаще других лошадей из нашей конюшни, потому что у меня был хороший нрав, и неопытные в езде люди предпочитали иметь дело со мною.
Выезжая часто, я попадал во всякие руки. Бывали у меня возницы, которые считали, что надо крепко натягивать вожжи, как будто лошадь сама не способна держать себя как следует; я не спорю, есть лошади с испорченными ртами, которым именно такая езда и попортила чувствительность рта; таким, конечно, натянутые вожжи могут помогать, но я, не знавший никогда плохой езды, не нуждался в поддержке вожжей, и они мне только мешали.
Случалось, наоборот, возить господ, совсем распускавших вожжи; лошадь, самая смирная и хорошо выезженная, может, однако, нечаянно испугаться чего-нибудь; в таких случаях лошади необходимо чувствовать твердую руку возницы, чтобы не споткнуться.
Мне случилось раз везти такого небрежного господина в фаэтоне. С ним ехали его жена и двое детей, сидевших позади него. Он бесцельно хлопал вожжами сначала, потом выпустил их из рук на колени, не обращая внимания на дорогу, то и дело оборачивался и разговаривал со своим семейством. Дорогу недавно чинили, и камень не везде еще был плотно утрамбован. Один из таких камешков попал мне в подошву острием, так что я мог наступать гладкой поверхностью камня на дорогу; камни такого рода самые опасные для лошади: они ранят ногу, не мешая ходу до тех пор, пока от боли лошадь не захромает. Кучер с опытной рукой заметил бы сейчас, что есть перемена в беге лошади, но мой беспечный хозяин продолжал шутить и смеяться, глядя по сторонам. Наконец я захромал. Тогда он воскликнул:
– Вот тебе раз! Лошадь хромая. Как же они смеют давать хромых лошадей нанимателям?
Тогда он подтянул вожжи и хлопнул бичом, говоря мне:
– Нечего разыгрывать старого инвалида! Взялся катать господ, так и поворачивайся. Хромать ни к чему. Все равно должен отвозить день.
В эту минуту к нам подъехал фермер на гнедой лошади. Он приподнял шляпу и остановился.
– Извините меня, сударь, если я вас обеспокою, – обратился он к моему седоку, – но мне кажется, что с вашей лошадью случилось что-то неладное. Похоже, что она наткнулась на острый камень, который вонзился ей в копыто. Позвольте мне осмотреть ее ноги; нет хуже для лошади этих острых камней, разбросанных на шоссе.
– Лошадь не моя, а наемная, – отвечал мой возница, – не знаю, что с ней случилось, но знаю, что бессовестно давать хромых лошадей нанимателям.
Фермер слез с лошади, перекинул узду через плечо и взял меня за ближайшую ногу.
– Ведь я так и говорил! – воскликнул он. – Вот камень, как же лошади не хромать?
Он попробовал вытащить камень рукой, но так как он уже глубоко врезался в ногу, то ничего нельзя было сделать одной рукой; фермер вынул из кармана особенный инструмент, которым выковыривают камни, и им осторожно вынул камень.
– Посмотрите-ка, что вонзилось в ногу вашей лошади, – сказал он господину. – Надо удивляться, что она не упала и не разбила себе коленей.
– Странно! – заметил господин. – Никогда я не слыхал, чтобы лошади набирали камни в копыта.
– Неужели? – спросил фермер немного презрительно. – Что поделаешь? Это случается с лучшими из них на таких дорогах. Если вы хотите избавить лошадь от хромоты, нужно поскорее освободить ногу от такой ужасной занозы. Нога вашей лошади порядочно намята, – прибавил он, бережно опуская мою ногу. – Советую вам, сударь, теперь ехать шагом, боль нескоро еще пройдет.
Он сел на лошадь с этими словами и, поклонившись даме, поехал своей дорогой.
После этого господин замотал вожжами и ударил хлыстом по хомуту, из чего я понял, что надо ехать, несмотря на боль в ноге; но я был так рад, что избавился от камня, резавшего мясо, что охотно побежал дальше.
Вот что приходится испытывать нам, наемным лошадям!
XXVII. Шалопаи
Бывают еще так называемые шалопаи, то есть досужие люди, выезжающие на наемных лошадях с тем, чтобы удивить быстротой езды; они не смотрят ни на дорогу, ни на погоду. Таким беззаботным гулякам лошадь представляется машиной, маленькой железной дорогой, и им хочется пускать машину на всех парах.
Раз они заплатили за столько-то времени езды, они стараются изъездить как можно больше и посадить побольше седоков в экипаж. Они гонят лошадь в грязную погоду, как в сухую, в гору и под гору. Им не придет в голову облегчить груз лошади и пойти пешком вверх по крутой горе. Разве лошадь не привыкла? Она должна ввозить тяжести на самые неудобные подъемы. Выходить из экипажа? Какие глупости! Стоит только хорошенько подгонять лошадь кнутом или прикрикнуть на нее, и она пойдет куда угодно!
Вот как рассуждают многие, между тем как добрая лошадь и без того из кожи лезет. Зато и ложится тяжелая грусть на душу! Такая быстрая и беззаботная езда губит всего скорее силы лошади. Я предпочел бы двадцать миль проехать с хорошим кучером, нежели две мили с легкомысленным господином, загоняющим наемную лошадь.
Эти господа еще одной небрежностью зачастую мучают нас: на крутых спусках они не тормозят экипаж, отчего легко может случиться несчастье, или, надев тормоз, забывают его снять, и приходится иной раз подниматься в гору с заторможенными колесами, что заставляет лошадь выбиваться из сил.
Кроме того, у этих праздных людей, катающихся на наемных лошадях, есть своя странная манера, которую они считают щегольской: с места, из конюшни, пускать лошадь во всю прыть и, хлопнув бичом, так круто поворачивать на углах, что легко случаются опасные столкновения.
Я хорошо помню одну прогулку, которую мне пришлось сделать весною с Рори. (Это была лошадь, ходившая со мной в дышле. Славная, добрая лошадь!) Нас наняли на весь день с нашим кучером, заботливым, хорошим человеком, так что день прошел очень приятно. Под вечер, когда уже смеркалось, мы возвращались доброй рысью домой. Дорога круто сворачивала влево, но, так как мы держались своей стороны, подле самой изгороди, наш кучер не остановил нас на повороте, предполагая, что если кто поедет навстречу, то ему остается довольно места. Подъезжая к повороту, я услыхал экипаж, быстро катившийся с горы; я не успел ничего разглядеть за высокой изгородью дороги, как уж мы столкнулись. По счастью для меня, я был со стороны изгороди, и удар пришелся слабее на мою долю, но бедный мой товарищ наткнулся грудью на дышло встречного экипажа, потому что господин, ехавший в нем, не подумал держаться своей стороны.
Я никогда не забуду раздирающего крика моего соседа, когда он шарахнулся от сильного удара. Лошадь, налетевшая на нас, опрокинулась через оглобли и переломила одну оглоблю. Мы узнали, что эта лошадь была тоже нашего хозяина; ее обычно запрягали в двухколесный кабриолет, в котором любили кататься молодые люди.
На горе бедного Рори, в этот день кабриолет был нанят одним из тех легкомысленных ездоков, о которых я говорил, не знающих даже простого правила всякой езды: всегда держаться своей стороны. Кровь лила из широкой раны бедного моего раненого товарища; говорят, что если б удар пришелся немного более в сторону, он бы убил Рори на месте. Лучше было бы для него, если б так действительно случилось.
После продолжительного лечения Рори продали ломовому извозчику, угольщику. А каково возить тяжелый воз по крутой горе, знают одни лошади! Я видел раз такую картину и не забуду грустного впечатления: воз, который нельзя даже затормозить, всей тяжестью наваливается на зад несчастной лошади, и без того едва могущей везти тяжелый груз.
Меня стали закладывать с другой лошадью, которую звали Пеги. Пеги была очень красивая, серая в яблоках, с темной гривой и темным хвостом. Она не была породистой лошадью, но у нее был очень добрый и веселый нрав. Одного я не мог понять: она, как видно, старалась бежать как можно лучше, но ход у нее был очень странный: то она шла хорошей рысью, то вдруг начинала скакать. Мне было очень неловко с ней бежать, и я как-то раз, вернувшись домой, спросил ее, почему она так странно бежит.
– Я знаю, что плохо иду, – сказала Пеги, – но, право, я не виновата. Все дело в том, что у меня ноги короткие. Я с тобой почти одного роста, но у тебя ноги гораздо длиннее, поэтому шаг у тебя больше и ты можешь скорее бежать. Я не виновата, что я такого склада, ведь я не сама себя создала; если б меня спросили, какие ноги я хочу иметь, я бы, конечно, попросила себе длинные ноги. Все горе моей жизни от коротких ног.
Я пожалел ее от всей души, но все-таки не мог понять, отчего такая смирная и усердная лошадь приобрела такую неудобную привычку; ведь она могла бежать ровно и угодить кому угодно.
– То-то и оно, что не всякому, – отвечала Пеги. – Я не могу бежать очень скоро, а многие считают необходимым ездить быстро. Я служила раз хорошему барину, который не требовал от меня большего, чем я могла сделать, и я была счастлива на том месте, но он уехал далеко, и меня продали одному фермеру. Этот фермер ничего не понимал в хорошей езде, он только любил бешеную езду и немилосердно хлестал меня, погоняя вперед. Так как я не успевала бежать довольно скоро для него, я стала иногда скакать, а потом привыкла к неровной езде. Раз, в темный вечер, мы возвращались таким образом с базара и налетели на что-то стоявшее посреди дороги. Бричка опрокинулась, мой хозяин сломал себе руку и, кажется, ребро, после чего меня, конечно, продали. То же будет со мною везде, если люди будут ожидать от меня быстрой езды.
Спустя некоторое время после нашего разговора Пеги была куплена двумя дамами, которые любили сами править в кабриолете и искали смирную лошадь.
Я несколько раз встречал Пеги; она ехала своей тихой рысью, не сбивалась и казалась очень довольной. Я был рад, что хорошая лошадка попала на хорошее место.
Вместо нее я получил нового товарища. Про него говорили, что он пугается. Я спросил его, отчего это с ним бывает.
– Смолоду я был пуглив, – сказал он, – и во мне еще более развили эту слабость наглазниками. Нет вернее средства, чтобы приучить лошадь пугаться. Когда можешь смотреть по сторонам, то всегда все разглядишь, и то, что казалось страшным, перестает быть страшным, но в наглазниках не знаешь, что угрожает тебе сбоку, и от этого пугаешься гораздо чаще и больше. Помню, раз мы ехали с хозяином и на мне были наглазники; рядом с экипажем ехал знакомый старый барин верхом. Вдруг мимо меня сбоку пролетел кусок белой бумаги или тряпки, не знаю, но я испугался и дернул в сторону. Хозяин начал меня бить, а старый барин остановил его:
– Что вы делаете? – сказал он. – Лошадь и без того испугалась, а вы ее еще более хотите запугать.
Это замечание было справедливое, и не за что было сердиться на меня. Если б сняли с меня наглазники, я бы перестал пугаться.
Я был согласен с ним и пожалел, что не все хозяева лошадей похожи на моего первого хозяина, фермера Грея, и на помещика Гордона.
Впрочем, случалось мне попадать в руки хороших господ. Однажды два хорошо одетых господина вышли садиться в экипаж, с которым я за ними приехал. Один из них подошел ко мне, потрепал меня ласково и осмотрел узду.
– Разве удила нужны этой лошади? – спросил он у конюха.
– Я полагаю, что она отлично пойдет и без них, – отвечал конюх, – но обыкновенно господа требуют, чтобы были удила.
– Я не люблю их, – продолжал господин. – Пожалуйста, снимите их. В дальней поездке лошади приятно быть легко взнузданной. Не правда ли, старина? – спросил он меня, погладив мою шею.
Оба они сели в экипаж; говоривший взял вожжи, слегка тронул меня, и мы пустились в дорогу.
Я выгнул шею, поднял голову и весело бежал, чувствуя себя в опытных и искусных руках. Я вспомнил доброе старое время.
Эти господа полюбили меня. Они несколько раз ездили со мной, пробовали меня и под верх и, наконец, уговорили содержателя извозчичьего двора продать меня одному их приятелю, который искал спокойную верховую лошадь. Вот как я попал к новому хозяину, господину Бари.
XXVIII. Вор
Господин Бари был человек очень занятый своими делами. Доктор советовал ему прогулки верхом, вот почему он купил меня. Он нанял конюшню недалеко от своего дома и конюха, которому поручено было убирать меня и кормить. Мой хозяин сам не понимал толку в лошадях, но он велел конюху, – я слышал, как он говорил с ним, – давать мне овса с отрубями и лучшего сена, так что я ожидал хорошего корма на новом месте.
Сначала все шло хорошо; конюх был человек опытный, он держал мое стойло в большой чистоте, тщательно чистил меня и вообще был ласков со мной. Раньше он служил, как я узнал, в больших гостиницах. Теперь он завел огород и продавал овощи на базаре; жена его разводила домашнюю птицу и кроликов тоже на продажу. Я вскоре заметил, что мне дают мало овса; бобов и отрубей я получал вдоволь, но к ним примешивали овса, я думаю, в четыре раза меньше, чем следовало. В две-три недели на мне сказалась такая несытная пища. Трава – вещь полезная, но мое здоровье требовало вдобавок овса. Что же было мне делать? Жаловаться я не мог и никак не умел довести до сведения хозяина, что делается со мной.
Таким образом прошло два месяца. Я удивлялся, как хозяин не замечает во мне перемены.
Однажды мы поехали с ним к одному его знакомому в деревню. Помещик, как видно, хорошо знал лошадей. Поздоровавшись с приятелем, он взглянул на меня и воскликнул:
– Послушай, Бари, что с твоей лошадью? Она, верно, больна: она очень переменилась с тех пор, как я видел ее у тебя в первый раз.
– Нет, она, кажется, здорова, – отвечал мой хозяин, – только она что-то невесела стала. Но мой конюх говорит, что осенью все лошади становятся хуже и слабее.
– Вот вздор-то! – сказал помещик. – Какая же теперь осень, у нас август! К тому же при такой легкой работе, как у тебя, и на хорошем корме лошадь не должна худеть даже осенью. Чем ты кормишь ее?
Хозяин рассказал ему, что по его приказанию дает мне ежедневно конюх. Помещик покачал головой и стал ощупывать меня.
– Не знаю, кто ест твой овес, – сказал он, – но я уверен, что лошадь его не получает. Ты ехал сюда быстро?
– Нет, совсем потихоньку.
– Дай-ка сюда руки; смотри, ведь лошадь вспотела, как потеют лошади, которые живут на одной траве. Советую тебе заглядывать в твою конюшню. Я терпеть не могу подозревать людей в бесчестности, – мои люди все достойны полного доверия, – но бывают такие нехорошие слуги, которые не пожалеют немое создание и готовы от него сами поживиться.
В эту минуту за мной пришел конюх.
– Задай-ка хорошего корма этому коню, – сказал ему его хозяин, – да не жалей овса.
Этот господин справедливо назвал нас немыми созданиями. Если б я мог говорить, я бы рассказал хозяину, куда девается его овес. Мой конюх приходил ко мне всегда в шесть часов утра и приводил с собой маленького сына, который входил с ним в закут около стойла, где хранятся сбруя и овес. У мальчика была в руках корзинка с крышкой. Раз как-то дверь осталась отпертой, и я видел, как конюх насыпал полную корзинку моим овсом, и мальчик ушел с ней домой.
С неделю после этого я увидал полицейского, который вошел в конюшню, только что мальчик с корзинкой вышел из нее. Полицейский держал мальчика за руку, и вскоре другой полицейский вошел за ними.
– Покажи, где отец твой держит корм для своих кроликов, – сказал мальчику один из полицейских.
Лицо мальчика было испуганное, он заплакал, но делать было нечего, он должен был показать, откуда отец берет овес.
Не знаю уж, куда увели после этого нашего конюха; только у нас он больше не появлялся.
XXIX. Обманщик
Хозяин не сразу мог найти нового конюха. Наконец в мою конюшню явился высокий молодой человек довольно красивой наружности. Звали его Альфредом. Он обращался со мной очень вежливо, и я не видал от него грубости. Но я скоро узнал, какой он хитрый и лживый человек. При хозяине он ласкал меня и всегда тщательно расчесывал хвост и гриву, а также мазал маслом копыта перед тем, как вести меня к хозяину, желая показать меня в блестящем виде. Но блеск был только снаружи: он никогда хорошенько не прочищал мне копыта, не чистил меня так, как следует чистить лошадь, точно он имел дело с коровой. Удила мои заржавели, седло оставалось сырым и нахвостник сделался жестким, как дерево.
Альфред зато занимался собою перед зеркалом, висевшим на стене чулана для сбруи; он считал себя, видно, красавцем, причесывался, расправлял усы, охорашивался подолгу. Когда хозяин разговаривал с ним, он при каждом слове прикладывал руку к козырьку фуражки и на все подобострастно отвечал: «Да, сударь! Слушаю, сударь!»
Его считали хорошим малым и поздравляли господина Бари с находкой.
По-моему же, это был самый ленивый, самодовольный человек, которого мне случалось видеть. Конечно, приятно было не знать грубого обращения, но лошади одного этого мало. Стойло у меня было свободное; в нем можно было бы жить очень покойно, если бы его держали чистым. Альфред ленился менять солому, так что запах сделался скоро тяжелый, и я стал страдать глазами от дурных испарений.
Однажды хозяин мой вошел в конюшню и сказал:
– Альфред, тут что-то едко пахнет. Хорошо бы вычистить стойло и вымыть пол, не надо жалеть воды.
– Как вам будет угодно, сударь, – отвечал Альфред, – но позвольте доложить вам, что для лошади опасно мыть стойло: они легко простужаются. Я бы не хотел причинить ей вред, сударь. Впрочем, как прикажете, сударь.
– Я не желаю студить лошадь, – сказал хозяин, – но надо что-нибудь сделать, чтобы воздух был здесь лучше. Исправны ли трубы?
– Я припоминаю, сударь, что есть запах от труб, может, и случилась там какая неисправность.
– Так пошлите за печником и велите ему поднять кирпичи сточной трубы.
– Слушаю, сударь.
Печник явился, выложил много кирпича, но ничего не нашел плохого в трубе. Он положил новую замазку и подал изрядный счет хозяину, но в стойле остался тот же дурной запах. Кроме того, ноги мои стали отзываться сыростью преющей соломы.
Хозяин заметил, что я ступаю не так верно, как прежде.
– Не понимаю, что сделалось с лошадью, – сказал он конюху, – у нее ноги трясутся; иногда мне кажется, что она споткнется и упадет, того и гляди.
– Так точно, сударь, – отвечал Альфред. – Я заметил то же самое на проводке.
Он солгал, потому что никогда не проваживал меня. Хозяин не каждый день ездил, – его занятия не всегда позволяли ему совершать верховую прогулку, вследствие чего я стоял целыми днями без движенья, что очень вредно, особенно когда лошадь все время получает столько овса, как будто она работает. Здоровье мое пошатнулось: на меня находила спячка или, наоборот, лихорадочное возбуждение. Конюх никогда не давал мне ни зелени, ни пойла из отрубей: они действовали бы прохладительно. Но Альфред был так же невежествен, как самодоволен. Кончилось тем, что вместо разумной пищи и достаточного движения я получал время от времени лошадиные лекарства, от которых часто чувствовал себя еще более больным, не говоря о том, как неприятно глотать лекарство.
Раз хозяин поехал кататься. Дорогой в город я два раза так неловко споткнулся на камнях мостовой, что хозяин заехал к ветеринару. Он осмотрел мои ноги и, стряхнув с рук пыль, сказал хозяину:
– У вашей лошади то, что мы называем гниением стрелки копыта. Хорошо еще, что она не упала. Такого рода болезнь происходит от неопрятной конюшни, где не меняют подстилку. Пришлите завтра лошадь, я вычищу ей копыта и покажу вашему конюху, как надо прикладывать примочку, которую я пропишу.
На другой день мне прочистили копыта и заложили в них паклю, пропитанную какой-то едкой жидкостью. Это было очень неприятно.
Ветеринар велел выкинуть всю солому из моего стойла, вычистить и проветрить его и каждый день стлать свежую подстилку. Кроме того, мне прописали пойло из отрубей, зелень и только немного овса до тех пор, пока ноги не заживут.
Я скоро стал поправляться, но господину Бари надоело возиться с бесчестными конюхами, и, так как он ездил нечасто, он решил продать лошадь, а себе нанимать, когда захочется покататься.


