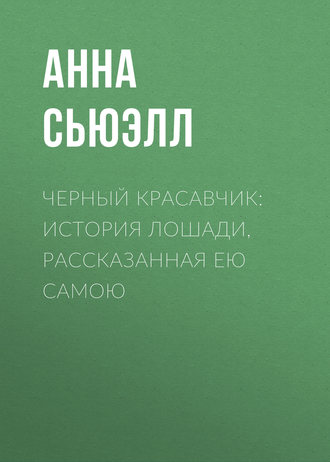
Анна Сьюэлл
Черный Красавчик: история лошади, рассказанная ею самою
XXI. Возмущение с целью освобождения
Однажды графиня, сойдя позднее обыкновенного и шурша платьем более чем когда-нибудь, сказала кучеру:
– К герцогине Б. Когда же кончится баловство лошадей! – прибавила она. – Прошу сейчас же подтянуть их головы кверху.
Иорк подошел сначала ко мне, а конюх держал в это время Джинджер. Мне высоко вздернули голову и закрепили ремни в этом положении; боль была нестерпимая. От меня кучер перешел к Джинджер, которая нетерпеливо кусала удила, по своему обыкновению. Джинджер догадалась, что хочет с ней делать Иорк, и, пользуясь той минутой, когда ей отстегнули ремень, вдруг так сильно брыкнулась, что задела Иорка по носу и сбила ему шляпу, между тем как конюх едва удержался на ногах. Оба схватили ее под уздцы, но она была сильнее их и, продолжая бешено брыкаться, наконец перескочила через дышло и упала, причем мне достался сильный удар по задней ноге.
Неизвестно, что взбешенная лошадь наделала бы еще, если б Иорк не поспешил сесть ей на голову, лишив ее таким образом возможности бороться. В то же время он крикнул:
– Отпрягите вороного; бегите за воротом, да скорее: отверните дышло; обрежьте постромки, если нельзя отстегнуть их.
Один из лакеев побежал за воротом, другой вынес ножик из дома. Конюх выпряг меня из кареты, освободил от Джинджер и увел меня в конюшню. Он поставил меня, как я был, торопясь назад, на помощь к Иорку Все эти происшествия сильно взволновали меня, и, если б не мое воспитание и долгая привычка к смирному поведению, я бы, конечно, стал тоже брыкаться; но я стоял неподвижно, сердясь и страдая от двойного, крепко затянутого мундштука. Кажется, в эту минуту я охотно бы лягнул первого человека, который вошел ко мне.
Вскоре два конюха привели Джинджер, довольно помятую. Иорк распорядился насчет нее, потом подошел ко мне. Увидав, что я стою взнузданный, он тотчас снял с меня узду с удилами.
– Противный этот строгий мундштук, терпеть его не могу, – проворчал он. – Я знал, что наживем с ним беду; хозяин будет очень недоволен. Ну, делать нечего! Если он сам не может справиться с хозяйкой, прислуге еще труднее рассуждать с ней. Я умываю руки в этом деле. Пусть теперь попадает, как хочет, на садовый праздник герцогини.
Иорк ворчал один; при других слугах он всегда почтительно отзывался о господах. Он ощупал меня всего и нашел ушибленное место на ноге. Оно сильно припухло и болело. Мне промыли его теплой водой и наложили мокрую повязку.
Граф, узнав о случившемся, остался очень недоволен уступчивостью Иорка, на что Иорк отвечал, что он желал бы впредь получать приказания только от его сиятельства. Но, кажется, все осталось по-прежнему, несмотря на эти разговоры.
Мне казалось, что кучер должен был бы горячее заступиться за своих лошадей, – впрочем, я не судья.
Джинджер больше не закладывали в карету. Когда она поправилась, один из младших сыновей графа пожелал ездить на ней на охоту, а я остался каретной лошадью и получил нового товарища в дышло. Макс, так звали его, был давно приучен к строгому мундштуку. Я как-то спросил его, почему он его терпит.
– Потому что ничего не могу сделать, – отвечал Макс. – Но, конечно, этот мундштук сократит мне жизнь, – продолжал он, – и тебе не лучше будет, если придется носить его долго.
– Неужели наши хозяева не знают, как вредны нам эти мундштуки? – спросил я.
– Не знаю, – отвечал Макс. – Купцы – те знают, и ветеринары знают. Я жил у одного большого торговца лошадьми, который приучал меня с другой лошадью ходить парой в дышле; он каждый день все выше подтягивал нам головы. Один господин, увидав это, спросил его, зачем он это делает. «Потому что иначе их у меня не купят, – отвечал купец. – Лондонские жители требуют лошадей, высоко несущих головы и с высокой поступью. Конечно, лошадям это вредно, но для торговли хорошо. Чем скорее лошади станут негодны в езде, тем скорее придут ко мне за новой парой». Вот что говорил купец. Суди же сам, каково лошадям достаются строгие мундштуки!
Четыре длинных месяца промучился я с этим ужасным мундштуком, возя графиню в карете; если бы такая жизнь продолжалась дальше, я уверен, что не вынес бы ее. Я до этих пор не знал пены у рта, теперь же у меня была всегда пена от постоянного трения о язык и десны крепко втиснутого в рот железа. Люди, видя это, говорят про нас: «Какая славная, горячая лошадь!» Но это вздор. Пены не должно быть у лошади, как не бывает ее у человека. Это все от жестокой узды.
Кроме вреда для языка и десен, строгий мундштук, подтягивая голову высоко, дает неестественное положение шее и вредно действует на легкие. Я стал задыхаться; грудь и шея болели после езды, и я чувствовал себя очень утомленным.
На моем прежнем месте я знал, что хозяин и Джон – мои друзья, но здесь, хоть я и пользовался хорошим уходом, у меня не было друзей. Иорк должен был отлично знать, как мучителен для меня строгий мундштук, но, верно, он не хотел начинать из-за этого борьбу с графиней и считал зло неизбежным.
XXII. Лошадь понесла графиню Анну
Ранней весной граф уехал с частью семьи в Лондон и взял Иорка с собой. Меня с Джинджер и несколькими другими лошадьми оставили в деревне, под надзором старшего конюха.
Графиня Гариетта, больная дочь графа, осталась с младшей сестрой и братом в деревенском замке. Она почти никогда не выезжала, а графиня Анна, прекрасная наездница, предпочитала ездить верхом с братом и двоюродными братьями. Она взяла меня в верховые лошади.
Я очень любил прогулки по холодку, в обществе Джинджер или Лиззи. Мужчины особенно любили эту гнедую Лиззи за ее живой нрав, но Джинджер знала ее лучше меня и часто говорила, что Лиззи очень нервная лошадь.
В замке гостил господин Блантейер, родственник семьи. Он любил ездить на Лиззи и так хвалил ее, что раз графиня Анна велела оседлать ее дамским седлом, а меня – мужским. Когда нас подвели к подъезду, господин Блантейер сильно обеспокоился.
– Разве вам надоел Черный Красавчик? – спросил он графиню Анну.
– О нет! – отвечала она. – Но я настолько любезна, что уступаю его вам на этот раз, а я попробую вашу очаровательную Лиззи. Признайтесь, что ростом и вообще видом она более похожа на дамскую лошадь, нежели мой любимец.
– Прошу вас не ездить на ней, – сказал Блантейер, – она очень мила, но не для дамской езды, уверяю вас. Поменяемтесь лошадьми.
– Милый братец, не тревожьте своей доброй, заботливой головы, – возразила графиня Анна, смеясь. – Я с детства привыкла к седлу и не раз скакала за собаками на охоте; хотя я знаю, что вы не одобряете этого, но я решила попробовать Лиззи, которую вы все так хвалите. Будьте любезны и помогите мне сесть.
Нечего было возражать на это. Он подсадил ее, собрал поводья, осторожно попробовал мундштук Лиззи и сам сел на меня. Только что мы двинулись, как лакей вынес записку от графини Гариетты, которая писала:
«Не можете ли вы заехать к доктору, передать ему мое письмо и подождать ответа?»
Деревня, где жил доктор, была в одной миле от нас, а дом доктора стоял в самом конце ее.
Мы отлично проехали туда. Блантейер соскочил, чтоб отворить ворота, так как к дому с улицы вела еще аллея высоких деревьев; но графиня Анна сказала, что не надо отворять ворота.
– Я вас здесь подожду, – сказала она, – а Черного Красавчика вы можете привязать за узду к решетке.
Блантейер с сомнением посмотрел на лошадь графини Анны.
– Я сию минуту вернусь, – сказал он наконец.
– Не торопитесь, – отвечала графиня, смеясь, – мы с Лиззи от вас не убежим.
Мою узду перекинули через столбик решетки, а сам Блантейер быстро скрылся у нас из глаз. Лиззи смирно стояла у дороги, в нескольких шагах от меня, спиной ко мне. Барышня спокойно сидела, распустив поводья и напевая песенку.
Я слышал, как мой всадник постучался в дверь дома. Через дорогу был луг; калитка, ведущая в него, стояла открытой настежь. Вдруг из нее выехали телеги, и за ними беспорядочной гурьбой выскочили несколько жеребят. Мальчик бежал за ними, громко щелкая бичом. Один из жеребят перебежал через дорогу и толкнулся в задние ноги Лиззи.
Удар ли бича или жеребенок, не знаю, что испугало Лиззи, но она брыкнула задом и пустилась бешеным галопом. Графиня Анна чуть не вылетела из седла, но удержалась. Я громко заржал раз, два, несколько раз кряду, призывая на помощь, и нетерпеливо бил землю копытом. Недолго пришлось мне ржать. Блантейер бежал ко мне от дома. Он взглянул и успел увидать вдали бешено скачущую лошадь с молодой графиней.
В одну секунду он вскочил в седло, собрал поводья, и мы понеслись вслед за ними. Ему не надо было пришпоривать меня: мною овладело беспокойство не меньшее, чем его собственное.
Дорога перед нами была ровная, прямая на расстоянии полутора миль; потом она сворачивала вправо и разделялась на две дороги. Когда мы доскакали до поворота, Лиззи уже давно скрылась из виду.
По которой из двух дорог она скакала? У садовой калитки одного дома стояла женщина, заслонившая глаза от солнца рукою и смотревшая куда-то с видимым волнением.
– Куда повернули? – крикнул ей Блантейер.
– Направо, – отвечала женщина, указывая нам, куда поскакали наши беглецы.
Мы понеслись туда и на секунду увидали их вдали, но новый поворот в дороге скрыл их от нас. Так мы скакали, не переводя духа; они то показывались, то скрывались. Казалось, что мы нисколько не нагоняем их. На дороге подле кучи щебня стоял рабочий, чинивший шоссе. Он махнул нам рукой, чтобы мы остановились.
– Они скачут по направлению большого выгона, сударь, – крикнул он нам.
Я знал этот выгон; весьма неровное место, покрытое вереском и мелким кустарником; кое-где росли кривые невысокие деревья; попадались и открытые места, поросшие славной травкой и изборожденные кротовьими кучами. Хуже места для бешеной скачки нельзя было найти.
Только что мы въехали на выгон, как далеко перед нами показалось зеленое платье нашей барышни. Ее длинные волосы развевались по ветру, голова была закинута, и весь корпус сильно наклонен назад; видно было, что она изо всех сил старается сдержать лошадь, но вряд ли у нее осталось много силы. Неровная почва замедлила ход Лиззи; теперь у нас была надежда настигнуть их.
Пока мы скакали по прямой дороге, Блантейер отпустил мне поводья; но теперь он подтянул их и с большим искусством правил мною по шероховатому полю, почти не замедляя моего хода.
На середине поля недавно прорыли канаву; выкопанная земля лежала высокими буграми по обе стороны. Неужели Лиззи не остановится перед таким препятствием? Нет, ни минуты не задумываясь, она взмахнула ногами и перелетела через канаву, но копыта ее задели за высокие края, и она упала на другой стороне. Блантейер застонал.
– Ну, Красавчик, покажи свою ловкость! – сказал он, крепко держа поводья.
Я собрался с силами, напряг все мускулы и ловко перепрыгнул через канаву.
В вереске неподвижно лежала наша бедная барышня. Блантейер встал на колени подле нее, назвал ее по имени, но ответа не послышалось.
Он осторожно повернул ее лицо к свету; оно было смертельно бледно, и глаза были закрыты.
– Ани, милая Ани, скажи что-нибудь!
Но мы не услыхали ни малейшего звука. Он расстегнул ворот лифа, пояс, рукава, ощупал ее пульс, потом вскочил и растерянно посмотрел вокруг себя.
Недалеко от нас два работника нарезали торф; увидав Лиззи, бешено скачущую без седока, они бросили работу и пустились за нею. Блантейер стал кричать им, и они вскоре подбежали к нам.
– Умеете ли вы ездить верхом? – спросил Блантейер.
– Не скажу про себя, что я хороший наездник, сударь, – отвечал один из них, – но я готов и шею сломать ради молодой графини. Она так была добра с моей женой и помогала ей нынешней зимой.
– Ну, так слушай, друг мой, – сказал Блантейер, – сядь на эту лошадь и скачи к доктору. Скажи, что его просят приехать сюда немедленно. От доктора ступай в замок, расскажи, что случилось, и пусть скорее присылают карету и горничную. Я здесь останусь.
– Слушаю, сударь! Дай же бог, чтобы милая барышня была жива! Эй, Джон! – крикнул рабочий товарищу. – Беги скорее за водой да скажи моей хозяйке, чтобы шла сейчас к графинюшке.
С этими словами он вскарабкался на меня и, работая ногами о мои бока и покрикивая, поехал в объезд канавы.
Я видел, что он смущен тем, что у него нет хлыста; но я скоро успокоил его, показав ему, как я могу бежать по своей собственной охоте. Он даже с трудом держался в седле. Я старался бежать самой ровной рысью, однако на некоторых плохих местах пришлось тряхнуть, но немного. «Тише, стой!» – кричал он. На шоссе дело наше пошло лучше, и мы скоро очутились у дома доктора, а потом и в замке. Рабочий старательно исполнил все поручения. В замке его хотели угостить, но он отказался, говоря, что поспешит к барышне, куда надеется добежать раньше, чем приедет карета.
В доме поднялась общая тревога, когда узнали о случившемся. Меня ввели в стойло, разнуздали и накинули на меня сукно.
Джинджер оседлали для молодого графа Георга, и в то же время я услыхал, как выехала карета.
Прошло много времени, прежде чем Джинджер вернулась ко мне. Когда мы наконец остались с ней вдвоем, она рассказала мне все, что видела.
– Мы прискакали на поле, – говорила она, – когда доктор уже был там. Какая-то женщина сидела на земле и держала голову графини на своих коленях. Доктор вливал ей что-то в рот, и я услыхала, как он сказал: «Она жива!» Потом меня отвели в сторону. Немного времени спустя барышню понесли к карете, и мы все поехали домой. Я слышала, что молодой барин сказал знакомому, которого мы встретили, что кости все целы, но она еще не сказала ни слова.
Через два дня после несчастного случая с молодой графиней Блантейер зашел ко мне на конюшню и, ласково потрепав, сказал графу Георгу, который пришел с ним:
– Я уверен, что эта лошадь отлично понимала опасное положение Ани; я не мог удержать его, так горячо он скакал в погоню за ней. Ани должна всегда ездить на нем и ни на какой другой лошади…
Из этих слов я понял, что моя молодая барышня вне опасности и что она скоро будет ездить верхом.
Известие это очень меня обрадовало, и я ждал счастливой жизни впереди.
На Джинджер же все охотился граф Георг. Иорк, бывало, говорил, что для такой горячей лошади надо бы седока посерьезнее, что молодой человек не сумеет беречь ее. Но Джинджер сама любила ездить под молодым охотником; она увлекалась не менее его. Зато нередко я видел Джинджер страшно утомленной после охоты и слышал, что она стала покашливать. Я беспокоился за бедную Джинджер.
XXIII. Рувим Смит
После отъезда Иорка в Лондон конюшнями стал заведовать Рувим Смит. Это был очень толковый человек, заботливый кучер, хорошо знавший свое дело; вдобавок он мог и лечить лошадей, так как прежде служил у ветеринара. Кучерским искусством он владел вполне; выезжал одинаково хорошо с любой упряжью. Красивый, образованный, с приятным обхождением, он нравился всем. И лошади любили его, – это я могу сказать. Надо было удивляться одному: как при таких качествах он оставался только помощником главного кучера.
Но Рувим Смит имел один большой недостаток: он любил выпить. Не то чтобы он всегда пил, как иные люди, – нет, бывало, он неделями и месяцами не касался водки, а то вдруг запьет и тогда осрамит себя, напугает жену и всем надоест.
Иорк всегда старался скрыть от графа проделки Рувима во время пьянства, держась за него как за полезного помощника. Случилось, однако, что граф узнал: нельзя было ему не узнать, потому что Рувим напился до того, что не мог сидеть на козлах, отвозя графских гостей с бала. Один из господ должен был пересесть на его место и довезти дам домой. Конечно, Рувима рассчитали; бедная его жена и маленькие дети должны были выехать из хорошей избы подле ворот парка и отправиться куда им угодно.
Мне рассказывали про этот случай, бывший еще задолго до того, как нас с Джинджер привели сюда. Мы же застали Рувима на старом месте. За него горячо заступился Иорк, и граф простил его, положившись на его обещание никогда больше не брать водки в рот. Действительно, при мне не случалось еще ни разу, чтобы Рувим изменил своему слову, и, когда граф уезжал с графиней в Лондон, Иорк счел возможным оставить конюшни на попечение Рувима.
Настал апрель. Наших господ ожидали домой в начале мая. Надо было выкрасить к их приезду маленькую карету; и так как в это самое время полковник Блантейер собрался ехать назад на место своей службы, то решено было довезти его до города в карете, потом оставить карету у каретника, а кучеру вернуться верхом. Смит запряг меня и взял с собой седло для обратного пути. Прощаясь с ним на железной дороге, полковник сунул в руку Смита деньги и сказал:
– Береги барышню, Рувим; не давай никому Черного Красавчика, его могут испортить неосторожной ездой. Береги его для барышни.
Мы оставили карету у каретника, после чего Рувим сдал меня конюху гостиницы «Белый лев», прося его хорошенько меня накормить и оседлать к четырем часам. У меня выпал гвоздь из подковы, но конюх сперва не заметил, а в четыре часа поздно было об этом думать. Смит вернулся только к пяти часам и сказал, что вряд ли он выедет раньше шести часов, так как он встретил каких-то прежних друзей. Конюх спросил у него, как быть с гвоздем.
– Ничего, сойдет и так, дойдем, – ответил Смит голосом, совсем непохожим на его обыкновенный голос: он произнес эти слова громко и небрежно.
Вообще странно было такое его отношение к лошади: он всегда обращал особое внимание на наши подковы.
Он не явился в гостиницу ни в шесть, ни в семь, ни в восемь часов. Около девяти часов послышался наконец его голос: он грубо выговаривал за что-то конюху; настроение у него, как видно, было самое плохое.
Хозяин гостиницы вышел нас проводить.
– Берегитесь, как поедете, господин Смит, – сказал он ему.
Но Смит только бросил бранное слово ему в ответ.
Когда мы выехали за город, он пустился в галоп, погоняя меня хлыстом, несмотря на то что я скакал изо всех сил. Луна еще не вставала, было очень темно. Дорогу недавно чинили, так что камни еще не обтерлись. Подкова моя держалась все слабее и наконец, у поворота дороги, совсем слетела с ноги.
Если б Смит не был так пьян, он догадался бы по моему ходу, что со мною случилась беда, но он не был способен что-либо заметить.
За поворотом дорога была еще хуже для моей неподкованной ноги. Большие острые камни вонзались в живое мясо; копыто расщепилось, и ногу раздирало до крови, а Смит не унимался: по этой трудной дороге он заставлял меня скакать, немилосердно подгоняя хлыстом.
Конечно, такая скачка не могла долго продолжаться. Страдание было невыносимое: я споткнулся и упал на передние колени. Смит слетел; падение, верно, было тяжелое, так как я упал на полном скаку.
С трудом поднявшись, я дотащился, хромая, до травы около дороги. Луна между тем поднялась и осветила все: я увидал Смита, лежавшего без движения в нескольких шагах от меня. Он раз только простонал. Мне хотелось кричать от острой боли в ступне и в коленях, но лошади привыкли переносить молча всякое страдание.
Я стоял молча и прислушивался ко всему. Опять тяжелый стон послышался со стороны Смита, но он лежал без движения, весь залитый лунным сиянием. Я не мог помочь ни ему, ни себе. О, как я желал услыхать звуки чьих-нибудь шагов! Дорога эта была малолюдная; мы могли простоять несколько часов без помощи. Была тихая, теплая апрельская ночь. Кругом ни звука, только иногда раздавались нежные трели соловья. Легкие облачка застилали луну на мгновения. Какая-то большая птица взмахнула крылами над кустом. Ничто больше не двигалось. Я вспомнил подобные тихие ночи моего детства, когда я, бывало, лежал подле матери на славном зеленом лугу фермера Грея.
XXIV. Как всё кончилось
Прошло уже много времени, когда я услыхал вдали лошадиный топот; звуки то приближались, то снова становились менее ясными. Дорога в наше имение проходила через лес, принадлежавший графу; звуки шли оттуда, и во мне проснулась надежда на помощь. С приближением топота мне даже показалось, что я узнаю походку Джинджер. Я громко заржал. И какова была моя радость, когда в самом деле я услыхал ответное ржание Джинджер и человеческие голоса! Вскоре показалась тележка с двумя седоками, которые медленно подвигались к нам по камням. Они остановились подле Рувима, лежавшего на том месте, где он свалился.
– Это Рувим! – воскликнул один из них, выскочив из тележки. – Он не шевелится.
Другой человек тоже сошел и нагнулся к распростертому телу.
– Он умер, – сказал он. – Пощупай его руки; они совсем холодные.
Они приподняли его; лицо его было безжизненное, кровь струилась из-под волос. Тогда они положили его опять на землю и подошли ко мне. Конечно, они тотчас заметили мои порезанные колени.
– Лошадь упала и сбросила седока, – сказали они. – Кто бы мог ожидать от Черного Красавчика такой проделки! Никому и в голову не приходило, что эта лошадь может споткнуться и упасть. Видно, беда случилась еще несколько часов назад. Странно, что лошадь простояла все время на месте.
Роберт (один из наших конюхов) попробовал вести меня. Я сделал шаг и чуть не упал опять на землю.
– Ээ! Да у лошади не только колени повреждены, а и копыто сломано. Неудивительно, что она упала. Знаешь, что я тебе скажу, Нед, – продолжал Роберт, – наш Рувим, верно, опять свихнулся. Если б он был трезв, он бы не поехал по камням на расковавшейся лошади. Ведь это немыслимое дело. Верно, опять за старое принялся: напился до потери сознания. Бедная Сусанна! Какая она была бледная, когда прибежала ко мне узнать, не приехал ли муж домой! Хотя она и старалась не выдать своего беспокойства, говорила о том, что его могли задержать, но я видел, что на душе у нее неладно. Она попросила меня выехать к нему навстречу. Как же нам быть теперь? Надо тело перевезти домой и лошадь тоже доставить. Это нелегко сделать.
Наконец они решили, что Роберт поведет меня, а Нед в тележке повезет Рувима. Трудно было уложить тело, потому что некому было подержать в это время Джинджер; но Джинджер, видно, поняла, как и я, что случилось, и смирно стояла, пока люди поднимали тело и укладывали его на тележку.
Нед поехал шагом со своим печальным грузом; Роберт обмотал мне больную ногу носовым платком и повел домой. Я никогда не забуду этой ночной прогулки. До нас оставалось три мили. Я шел тихонько, хромая и чувствуя сильную боль на каждом шагу. Роберт понимал, верно, как мне трудно, потому что он то и дело трепал меня ласково рукой и говорил со мной самым нежным голосом.
Наконец мы добрели до дома; меня поставили в мое стойло, перевязали колени мокрыми тряпками, а на больную ногу положили компресс из отрубей, чтобы вытянуть жар. Поев овса, я кое-как улегся и заснул, несмотря на боль.
На другой день ветеринар осмотрел меня. Он не нашел перелома и сказал, что я могу поправиться совсем, хотя на коленях останутся следы падения. За мной усердно ходили, и все было сделано для моего выздоровления, но оно подвигалось медленно. На коленях образовалось что-то очень неприятное; ветеринар называл это диким мясом, и мне прижигали его. Когда кончилось это страдание, мне наклеили пластырь, от которого сошла шерсть. Верно, так нужно было.
Назначили следствие, чтобы разузнать причины внезапной смерти Рувима. Содержатель гостиницы «Белый лев» и несколько других свидетелей показали, что Рувим при отъезде из города был совершенно пьян. Сторожу заставы подтвердил показание тем, что он видел Рувима бешено скачущим; мою подкову нашли среди камней на дороге. Дело вполне выяснилось, и с меня сняли всякую вину.
Все, конечно, жалели бедную жену Рувима. Она обезумела от горя и все повторяла: «Он был такой добрый… Если б не эта проклятая водка, ничего бы не случилось. Зачем продают это зелье? О Рувим, мой бедный Рувим!»
После похорон ей пришлось выехать из своего хорошего домика под славными дубами. Она и ее шестеро маленьких детей должны были отправиться в большой мрачный работный дом, куда помещают всех бесприютных.


