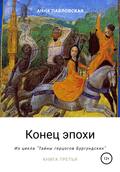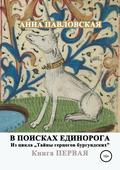Анна Павловская
Русский мир. Часть 2
Да и императоры любили покровительствовать Смольному институту и навещать его. Николай I мог «нагрянуть» с внезапной проверкой на кухню института и сделать строгий выговор поварам, если меню обеда было не слишком хорошо (а едой в Смольном действительно не баловали, и выпускницы вспоминали о ней с неизменным чувством отвращения). Балы в Смольном были любимы всеми членами императорской семьи и ее окружением, особенно мужской частью. Александр II именно здесь встретил Екатерину Долгорукую, ставшую в конце жизни его морганатической женой.
Стиль, образ жизни и мировосприятие смолянок не слишком менялись с годами. В начале ХХ в. Смольный продолжал жить своей «особенной, отгороженной от перемен жизнью, по правилам, завещанным его великой основательницей! Вот и носили смолянки в нынешнем веке допотопную одежду, форму, цвет и покрой которой навсегда установила Екатерина Великая… Естественно, что в глазах поколения, входившего в жизнь в начале ХХ века, питомицы и выпускницы Смольного, с их пелеринками, чопорностью и архаическими суждениями, воплощали далекие современности представления, устаревшие понятия и манеры – над ними чуть трунили, относились слегка иронически. Смолянки выглядели отжившими, отчужденными от широкого потока жизни нового делового века… То был сколок восемнадцатого, безнадежно чуждый современности»170.
Такого рода консерватизм и отрыв от действительности института вызывал двойственную реакцию у общества. Многие восхищались чистотой и наивностью смолянок, другие смеялись над их экзальтированностью и оторванностью от жизни. В Петербурге ходила эпиграмма:
Иван Иваныч Бецкий
Человек немецкий,
Носил мундир шведский,
Воспитатель детский,
В двенадцать лет
Выпустил в свет
Шестьдесят кур,
Набитых дур.
А С. Н. Глинка, отвечая на насмешки, писал о первых выпускницах института: «С невинною душою, с просвещенными понятиями, обогащенные познаниями приятных изящных искусств юные россиянки вышли из колыбели своего воспитания и показались наивными и несмышлеными младенцами; и о Бецком разошлась молва, что он “выпустил сто кур, монастырских дурр”»171.
У некоторых образ смолянки вызывал умиление. Е. А. Сабанеева передает воспоминания своей матери о княжне Екатерине Николаевне Оболенской, тоже из первых выпускниц института, которая, по рассказам, «была милая, добрейшая старушка… и оставалась до конца своих дней совершенной институткой. <…> Вот что матушка про нее рассказывала: “Раз как-то стояла я у окна нашего московского дома со стороны сада. Был великолепный майский вечер, сирень в саду начинала цвести, аллея акаций по одной стороне сада, густая уже от свежих листьев, бросала от себя длинную тень, а на полянке, что против окон, яблони были в полном цвету. Луна взошла, ярко светила на небе и серебрила своим матовым отблеском эти цветущие деревья. Я залюбовалась и задумалась. Я была одна в комнате; вдруг кто-то тронул меня легонько за плечо. Я даже вздрогнула. Гляжу!.. стоит подле меня наша добрая старушечка, тетушка княжна Екатерина Николаевна.
Варенька, – говорит она, – отойди от окна, милый друг, не гляди на луну.
Отчего же, тетушка? Посмотрите, как хорош вечер!
Не годится, мой друг, девице глядеть на луну: подумают, что ты влюблена”»172.
Такого рода логика, понятная только выпускницами института, ограждала их от живого окружающего мира. Над ней смеялись, она умиляла.
Но чаще всего образ жизни смолянок подвергался резкой критике. Так, выдающаяся женщина своего времени, дочь великого поэта, фрейлина при дворе сначала Николая I, а затем Александра II А. Ф. Тютчева крайне негативно оценивала образование в институте, в который были помещены ее сестры после приезда в Россию из Германии. В своих воспоминаниях она подчеркивала, что «образование, получаемое там, было вообще очень слабо, но особенно плохо было поставлено нравственное воспитание. <…> О религии как об основе нравственной жизни и нравственного долга не было и речи. Весь дух, царивший в заведении, развивал в детях прежде всего тщеславие и светскость. Хорошенькие ученицы, те, которые лучше других умели танцевать и грациозно кланяться, умели причесываться со вкусом и искусно оттенять клюквенным соком бледность лица, всегда могли рассчитывать на расположение со стороны начальницы… Дети богатых и сановных родителей составляли особую аристократию в классах. Для них почти не существовало правил институтской дисциплины. Они могли безнаказанно пропускать уроки, по утрам долго спать, не обращая внимания на звон колокола, пренебрегать обедом, подаваемым в общей столовой (кстати сказать, отвратительным), и питаться лакомствами из соседней лавочки. Как с нравственной, так и с физической стороны весь режим был отвратительный»173.
Сама Тютчева получила образование еще в Германии, в Мюнхенском институте и в Россию приехала уже в 18 лет. Встречающееся в ее записках сравнение немецкого и русского образования явно не в пользу последнего. Вся система женского воспитания в России не вызывала у нее сочувствия: «…это поверхностное и легкомысленное воспитание является одним из многих результатов чисто внешней и показной цивилизации, лоск которой русское правительство, начиная с Петра Великого, старается привить нашему обществу, совершенно не заботясь о том, чтобы оно проникалось подлинными и серьезными элементами культуры. Отсутствие воспитания нравственного и религиозного широко раскрыло двери пропаганде нигилистических доктрин, которые в настоящее время нигде так не распространены, как в казенных учебных заведениях»174. Правда, надо отметить, что у Тютчевой были свои причины не любить Смольный – из-за отца, страстно влюбившегося в юную выпускницу Смольного, племянницу инспектрисы института Елену Денисьеву, ставшую его гражданской женой, и уже упомянутого любовного романа императора Александра II, жену которого Анна Федоровна почитала особо.
Действительно судьбы выпускниц Смольного института были разными. Некоторые из них вскоре после окончания удачно выходили замуж, создавали семью, то есть достигали высшей и наиболее желанной цели, другие становились фрейлинами императорского двора, что тоже чаще всего заканчивалось для них браком, те, кто победнее, устраивались воспитательницами и гувернантками в частных семьях – репутация института была высока и родители охотно допускали бывших смолянок к своим детям. Некоторых ждал горестный удел героини известного стихотворения Марины Цветаевой, рассказавшего
О том, как редкостным растением
Цвела в светлейшей из теплиц:
В великосветском заведении
Для благороднейших девиц.
Как белым личиком в передничек
Ныряла от словца «жених»;
И как перед самим Наследником
На выпуске читала стих,
И как чужих сирот-проказников
Водила в храм и на бульвар,
И как потом домой на праздники
Приехал первенец-гусар.
<…> И как потом со свертком капельным —
Отцу ненадобным дитём! —
В царевом доме Воспитательном
Прощалася… И как – потом —
Предавши розовое личико
Пустоголовым мотылькам,
Служило бедное девичество
Его Величества полкам…
И как художникам-безбожникам
В долг одолжала красоту,
И как потом с вором-острожником
Толк заводила на мосту…
И как рыбак на дальнем взмории
Нашел двух туфелек следы…
Вот вам старинная история,
А мне за песню – две слезы.
И все-таки нельзя забывать о безусловных заслугах Смольного института в деле развития женского образования. Он был первым светским учебным заведением для женщин, поставившим целью широкое и разностороннее образование. По его образу и подобию в дальнейшем открывались другие подобного рода женские учебные заведения. Сразу же после его создания при нем было основано Училище для малолетних девушек недворянского происхождения (позже называлось Мещанским училищем, а с XIX в. – Александровским институтом), дававшее возможность девушкам из бедных семей получить образование и впоследствии место воспитательницы в хорошей семье. Дворянским девушкам из обедневших, но славных родов государство также предоставляло шанс, взяв их на свое обеспечение.
Да и оторванность девушек-смолянок от жизни была скорее частью их образа, чем реальностью. Неслучайно после февральских событий 1917 г. среди воспитанниц, знаменитых своим экзальтированным монархизмом, по свидетельству современницы, «обнаружились разные симпатии: одни институтки носили под пелеринами белые бантики, обозначавшие их приверженность монархии, другие там же прятали красные, свидетельствовавшие их симпатии революции»175.
Смольный институт был первым и наиболее известным, но далеко не единственным в ряду институтов благородных девиц. В 1789 г. был создан Екатерининский институт в Петербурге, в 1802 г. – в Москве, в 1807 г. – Павловский институт в Петербурге. После этого открываются институты и в провинциальных городах – в Харькове, Одессе, Казани, Оренбурге, Киеве, Иркутске и т. д., всего к середине XIX в. их число достигло 25. Обучались в институтах семь лет, имелись дополнительные, подготовительный и педагогический («пепиньерский»), классы. Надо отметить, что институты благородных девиц, хотя и основывались первоначально на программе Смольного института, были значительно ближе к жизни, чем последний, дольше всех сохранявший свою сословную замкнутость не столько на деле, сколько по духу.
Программа обучения в этих институтах изначально была достаточно серьезной, хотя и с преимущественным упором на изучение иностранных языков и хороших манер. Позже учебные планы были пересмотрены, расширены и ориентированы на программы женских гимназий. Много места отводилось домашним «наукам», необходимым девушкам в будущей жизни. Правда, часто скорее это была игра в хозяйство, чем практические занятия. А. Н. Энгельгардт, учившаяся в московском Екатерининском институте в середине XIX в., вспоминала о том, как воспитанницы старших классов по очереди ходили на занятия в так называемую образцовую кухню, чтобы учиться готовить. «Придут, бывало, институтки в эту кухню, – вспоминала Анна Николаевна, – кухарка подает им готовое тесто и готовую начинку и покажет, как раскатать тесто, положить начинку, защипать его и… только! Что было раньше, откуда взялось тесто и как его приготовляли – осталось покрытым мраком неизвестности, и что будет после с заготовленными пирожками, сколько времени и в какой печи они будут сидеть – тоже!.. Та же история повторялась и с котлетами: готовому срубленному мясу придавалась руками институток форма котлет, они обваливали их в сухарях… и затем, после темного для нас промежутка, во время которого котлеты получали неизвестным нам путем съедобные свойства, мы их поедали»176.
Не все, однако, было так плохо. Занятия, особенно по иностранным языкам и литературе, а также по русской словесности, велись достаточно серьезно. В женских институтах работали серьезные педагоги, нередко профессора университетов. В Смольном институте начинал свою педагогическую карьеру К. Д. Ушинский, лекции которого производили ошеломляющее впечатление на воспитанниц. Вот как описывает свои впечатления от первой лекции Ушинского одна из его учениц: «Чтобы понять, какое потрясающее впечатление произвела на нас эта вступительная лекция, нужно иметь в виду не только то, что идеи, высказанные в ней, были совершенно новы для нас, но и то, что Ушинский высказывал их с пылкою страстностью и выразительностью, с необыкновенной силою и блестящей эрудицией, которыми он так отличался. Что же мудреного в том, что эта речь огненными буквами запечатлелась в наших сердцах, что у всех нас во время ее текли по щекам слезы»177.
Сами девушки, наверное, больше всего ценили те отношения дружбы и взаимопомощи, которые складывались во многих институтах, особую атмосферу общественного жития, царившую в них. «Товарищество оказывало во многих отношениях хорошее влияние на характер институтки, – делилась размышлениями Энгельгардт, – оно вселяло в нее понятие о честном и справедливом, понятие о равенстве и уважении к чужим правам и общественному мнению. Конечно, в этом отношении институт разделял лишь общее свойство всех общественных заведений, которые именно тем и хороши, что вселяют в ребенка понятие о гражданстве, если можно так выразиться, чего семейное воспитание почти не в состоянии развить»178. Так достигалась важнейшая задача общественного образования, гражданское воспитание, а также обучение навыку жизни среди людей. Девушки старались не терять друг друга из виду, помогать, чем возможно, многим удавалось поддерживать дружеские отношения на протяжении всей жизни.
Институты благородных девиц занимают особое место в истории учебных заведений в России. При всех их достоинствах и недостатках, они сыграли заметную благотворную роль в деле распространения женского образования, предоставив возможность учиться многим девушкам. В них была предпринята попытка, и далеко не всегда неудачная, совместить в полной мере две важнейшие составляющие российского образования – нравственное воспитание и систематическое обучение. Не всегда совершенные, с перегибами и крайностями, они во многом достигли желаемого и заслужили доброе слово как от воспитанниц, так и от русского общества, иногда несправедливо сурового к ним.
Основные принципы и традиции российского образования
В первую годовщину открытия Московского университета на традиционном публичном собрании, состоявшемся 26 апреля 1756 г., Н. Н. Поповский, ученик и единомышленник М. В. Ломоносова, один из первых отечественных профессоров, провозгласил: «…учение есть старости жезл, юным увеселение, утверждение в счастье, в несчастье отрада…»179 В это время необходимость распространения образования уже была признана обязательным условием процветания как отдельной личности, так и государства в целом.
История развития образования в России представляется, с одной стороны, одним из самых парадоксальных явлений русского мира, а с другой, крайне закономерной и важной его составляющей. Противоречия, загадки, малочисленные или недостоверные источники, отсутствие точной информации рождают споры, противоположные мнения, взаимоисключающие научные концепции. Взять хотя бы печально знаменитое варварство русских. Даже и сегодня нет-нет да и всплывет образ русского дикаря, прозябающего в косности и невежестве, а для предшествующих эпох это было, пожалуй, самым распространенным представлением, причем далеко не только среди внешнего мира, но подчас и внутри самой России. А ведь просвещение Руси началось еще с Владимира Святого, и на протяжении более чем тысячи лет не оскудевала земля русская талантами: и сегодня мир читает произведения «варваров», музеи мира оспаривают право купить их творения, а в концертных залах не смолкает русская музыка.
Не только художественной культурой славится Россия. Грустно, что богатейшие государства мира борются за наших ученых, но ведь «утечка мозгов» возможна только оттуда, где они есть. Интересно, что в советское время нам настойчиво внушали, что наша система образования одна из лучших в мире, а мы самый читающий народ. Мы гордились этим, но сомнения оставались, как можно сравнивать себя с тем, чего не знаешь и не видишь. В конце ХХ в. мир открылся для россиян, и оказалось, что советская пропаганда была не слишком далека от истины с той только разницей, что многие сегодня считают нашу образовательную систему самой лучшей. И сегодня, в период, когда Россия утратила свои лидирующие позиции по многим показателям, именно эта область сохранила свой престиж, значение и авторитет.
Удивительны темпы развития образования в России. Начало XVIII в. Изданное в 1717 г. при непосредственном участии Петра I «Юности честное зерцало» содержит рекомендуемые нормы поведения. Приличное поведение дворянина новой эпохи выглядело так: «Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в порядке по сему правилу: Во-первых, обрежь себе ногти, да не явится, якобы оныя бархатом обшиты. Умой руки и сиди благочинно, сиди прямо и не хватай первый блюдо, не жри как свинья и не дуй в ушное, чтобы везде брызгало, не сопи егда яси. Первый не пей, будь воздержан и бегай пьянства; пей и яждь, сколько тебе потребно, в блюде будь последний. Когда что тебе предложат, то возьми часть из того, прочее отдай другому и возблагодари его. <…> Не облизывай перстов и не грызи костей, но обрежь ножом»180. И так далее в том же духе. Безусловно, подобные рекомендации свидетельствовали о том, что большая часть дворянства вела себя именно так. Вспомним к тому же, что в это время многие дворяне ставили крест вместо подписи, большая часть преподавателей приглашалась из-за границы за неимением своих собственных, в России не было ни одного университета, словом, картина быта и нравов представляется весьма грустной.
Проходит менее ста лет. Картина полностью меняется. В России процветают первоклассные учебные заведения различных уровней, множатся университеты, развиваются женские образовательные структуры. В дворянских усадьбах собраны превосходные художественные коллекции и богатейшие библиотеки, светское общество говорит на иностранных языках лучше, чем на родном, и разбирается в европейской литературе лучше, чем жители тех стран, где она создается. Удивляют невиданные темпы, с которым образование распространилось по стране. Если Петру I приходилось часто насильно отправлять дворянских детей учиться, то уже к середине XVIII в. обучение потомства становится для их родителей делом первостепенной важности. А приезжавшие в Петербург в конце царствования Екатерины французские путешественники свидетельствовали, что «здешняя образованная молодежь самая просвещенная и философская в Европе» и что она знает «более, чем оканчивающие курс в немецких университетах»181.
Н. М. Карамзин в своей речи, произнесенной в Российской академии 5 декабря 1818 г. по случаю избрания его в члены академии, справедливо подметил один из «феноменов, коими Россия удивляет внимательных иноземцев: наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях есть какая-то необыкновенная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями»182.
Наконец, важной и парадоксальной особенностью российского образования представляется его связь с мировым процессом. Хорошо известно, что Россия в различные эпохи много обращалась к международному, главным образом, европейскому опыту, охотно перенимая его достижения. Тут можно вспомнить и университет, построенный по немецкому образцу, и систему начального образования, подобную австрийской, и взятые за образец французские женские учебные заведения, и английские ланкастерские школы, и даже античные лицеи. Но охотно перенимаемые иностранные формы вскоре наполнялись национальным содержанием, а конечный российский результат крайне мало напоминал иностранный оригинал. Причем часто превосходил его. В связи с этим выглядят бессмысленными спекуляции на тему отсутствия национальной самобытности системы российского образования.
Крайне важным представляется рассмотрение смысла и содержания основных понятий, связанных с системой образования. В русском языке к данной сфере относятся несколько слов: «образование», «обучение», «просвещение» и «воспитание». При всей их кажущейся простоте и определенности разные эпохи трактовали их по-разному. В значительной степени в содержании этих слов заключены во многом суть и своеобразие российского образования. Их понимание дает ключ к пониманию всей системы.
Прежде всего обратимся к «Толковому словарю живого великорусского языка», составленному В. И. Далем. Он по-прежнему остается важнейшим памятником своей эпохи, о чем, в частности, свидетельствуют его многочисленные современные переиздания. Вышедший в 1861–1868 гг., он собирался Владимиром Ивановичем на протяжении полувека (сам он относит начало работы к 1819 г.), т. е. отражает понимание тех или иных слов и выражений в различные периоды. Одновременно с этим он представляет достаточно широкий социальный фон, стараясь передавать трактовку различных понятий русским народом в целом, а не какой-то конкретной социальной группой.
В словаре Даля мы читаем, что «просвещение» – это «свет науки и разума, согреваемый чистою нравственностью; развитие умственных и нравственных сил человека; научное образование, при ясном сознании долга своего и цели жизни». «Просвещать» – «даровать свет умственный, научный и нравственный, поучать истинам и добру; образовать ум и сердце», а «просвещенный человек» – «современный образованьем, книжный, читающий, с понятиями об истине, доблести и долге». «Образовывать» – «совершать, улучшать духовно, просвещать; иногда, придавать наружный лоск, приличное светское обращенье, что и составляет разницу между просвещать и образовать», а «образованный человек – получивший образованье, научившийся общим сведениям, познаньям. Образованный, научно развитой, воспитанный, приличный в обществе, знающий светские обычаи; первое, умственное образованье; второе, внешнее; для нравственного – нет слова!» «Воспитывать» – «заботиться о вещественных и нравственных потребностях малолетнего, до возраста его; <…> в высшем значении научать, наставлять, обучать всему, что для жизни нужно», а «воспитанный человек – выросший в обычных правилах светского приличия, противоположность невежа; образованный, обогащенный сведениями, противоположность невежда». Наконец, самое простое действие – «обучать», т. е. «учить, научать, передавать кому знание, искусство; наставлять, школить, муштровать». В это период попадает в данный смысловой ряд и понятие «культура», «образование, умственное и нравственное»183.
Итак, во времена Даля понятия «образование», «обучение», да и «воспитание» в значительной степени были связаны с внешним лоском, хорошими манерами, умением вести себя в обществе, т. е. теми основами, которые начиная с середины XVIII в. составляли заветную цель большинства. Однако в словаре очевиден негативный подтекст, осуждение подобного рода подхода к образованию. Характерны в этом плане примеры, приводимые Далем в словарных статьях: «Просвещение одною наукою, одного только ума, односторонне, и не ведет к добру»; «Науки образовывают ум и знания, но не всегда нрав и сердце. Ученье образует ум, воспитанье нравы». Даль сетует, что есть умственное образование, внешнее, а вот для нравственного нет и отдельного слова. Однако понятие «просвещение» (от «просветлить – сделать светлее, устранить сумрак или муть; дать более свету», так же как «образование» от «ображать – придавать чему образ») наиболее близко к сути проблемы образования в России. Распространение знаний само по себе не только не нужно, но может быть и вредно, оно имеет смысл только в сочетании с определенными нравственными принципами, высокими идеалами, словом, одновременное образование ума, сердца и души.
С течением времени понятия упрощались, нивелировались и все более сближались. Так, в словаре Д. Н. Ушакова (1935) под образованием понимается «процесс усвоения знаний, обучение, просвещение», в словаре С. И. Ожегова (1960) – «обучение, просвещение». «Просвещение» у Ушакова – это «образование, обучение», а у Ожегова «просветить» – «сообщить кому-н. знания, распространить среди кого-нибудь знания, культуру», словом, замкнутый круг, в котором все понятия замыкаются друг на друге. Слово «воспитание» в 1930-е гг. тесно связывалось еще с буржуазным миром, и понятие «воспитанный человек» отождествлялось с «благовоспитанный» – «умеющий себя хорошо держать, внешне выдержанный, обладающий хорошими манерами». А вот ко второй половине ХХ в. воспитание стало опять признаваться важной составляющей процесса обучения, и у Ожегова мы читаем, что это «навыки поведения, привитые школой, семьей, средой и проявляющиеся в общественной жизни»184. В разговорной речи понятие «образованный человек», во времена Даля прежде всего подразумевавшее светские манеры и знание правил хорошего тона, приобрело более нейтральный оттенок и общее значение. Сегодня его в какой-то степени заменило сочетание «культурный человек», предполагающее больше внешне усвоенное поведение, чем знания и умения. А вот всеобъемлющее и уважительное в середине XIX в. понятие «просвещенный человек» к ХХ в. стало звучать напыщенно и в значительной степени вышло из употребления.
Как бы ни упростилось современное понимание основных терминов, связанных с системой образования, традиционное представление об образовании как о сложном процессе, включающем в себя передачу знаний, воспитание личности и формирование нравственных принципов, сохраняется. Современный «Большой энциклопедический словарь» показывает неразрывность всех этих процессов, их органичную связь с понятием «образование», которое получает в нем наиболее общее значение и понимается как «процесс развития и саморазвития личности, связанный с овладением социально значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, умениях, творческой деятельности и эмоционально-ценностном отношении к миру; необходимое условие деятельности личности и общества по сохранению и развитию материальной и духовной культуры». С ним неразрывно связаны и взаимодействуют понятия «воспитание» («целенаправленное развитие человека, включающее освоение культуры, ценностей и норм общества. Осуществляется через образование…») и «обучение» («основной путь получения образования, процесс овладения знаниями, умениями и навыками под руководством педагогов, мастеров, наставников и т. д. В ходе обучения усваивается социальный опыт, формируется эмоционально-ценностное отношение к действительности»). Проще всего здесь трактуется просвещение как «распространение знаний, образования»185.
Несмотря на кажущуюся простоту рассмотренных выше понятий, их содержание в значительной мере помогает понять суть отношения в России к проблеме образования. Например, как уже отмечалось выше и будет показано ниже, к середине XVIII в. необходимость обучения детей не вызывала сомнения не только в дворянской среде, но и во многих других социальных группах, например в купечестве. При этом если для первых она нередко была данью моде, то для последних вызвана практической необходимостью. Однако несмотря на различие целей и задач образования необходимость и своего рода неизбежность его распространения понималась многими. И вместе с тем продолжались и не теряли остроты споры и сомнения. Самое большое неприятие вызывало упрощенное понимание образования как приобретения определенного количества знаний, направленных на развитие исключительно ума. В России от одного ума проистекало только горе, лишь наряду с воспитанием души и сердца ум мог принести пользу. В комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль», посвященной проблемам воспитания и образования, Стародум наставляет Софью: «Чем умом величаться, друг мой? Ум, коли он только что ум, самая безделица… Прямую цену уму дает благонравие. Без него умный человек – чудовище. Оно неизмеримо выше всей беглости ума. <…> Верь мне, что наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло. Просвещение возвышает одну добродетельную душу»186. Баснописец И. А. Крылов предупреждает самонадеянного читателя: «Хотя в ученьи зрим мы многих благ причину, / Но дерзкий ум находит в нем пучину / И свой погибельный конец, / Лишь с разницею тою, // Что часто в гибель он других влечет с собою…»
Поэт В. А. Жуковский, которого можно считать одним из самых серьезных воспитателей России, недаром Николай I доверил ему столь ответственное дело, как образование наследника русского престола великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II, считал, что знания занимают далеко не главенствующее место в процессе образования. «Я разумею под именем просвещения, – писал он, – приобретение настоящего понятия о жизни, знание лучших и удобнейших средств ею пользоваться, усовершенствование бытия своего, физического и морального». И далее подчеркивал, что «цель воспитания вообще и учения в особенности есть образование для добродетели»187.
Три сквозных мотива проходят через всю историю образования: мотив света, пашни и подвига. Каждый из них дает ключ к пониманию его особенностей. Первый наиболее емко выражен в пословице «Ученье свет, а неученье – тьма». Процесс получения знаний понимается как преодоление тьмы и обращение к свету. Образование в своем первичном понимании придает образ, но этого мало, важно зажечь свет в душе человека. И здесь возникает понятие «просвещение», неразрывно связанное с религиозной темой. Первый просветитель Руси – великий князь Владимир. О его крещении летописец говорит: «Володимеръ же просвещенъ самъ, и сынове его, и земля его», т. е. крещением просветился сам Владимир, его сыновья и его земля188. Характерно, что этот изначально церковный термин распространился в России на систему образования, утратив свое первичное значение (хотя мы и встречаем его еще у В. И. Даля). Напоминал об этом Н. В. Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Мы повторяем теперь еще бессмысленно слово “просвещение”. Даже и не задумались над тем, откуда пришло это слово и что оно значит. Слова этого нет ни на каком языке, оно только у нас. Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит…»189 Мотив света применительно к образованию сохранился и в совсем другую эпоху. Вспомним известный плакат первых лет советской власти «Неграмотный, что слепой, ходит во тьме». Так выстраивается первый ряд «свет – просвещение – душа»
Образы земли, пашни, которую надо возделать, сеятеля как распространителя знаний, а знаний как семян составляют другой важнейший ряд понятий, определяющих суть российского образования. Тема эта возникает еще в древности, перекликаясь с библейскими мотивами, уподобляя знания самой жизни. «Повесть временных лет», повествуя о просвещении Руси, поэтически представляет великого князя Владимира Святого как пахаря, а Ярослава Мудрого как сеятеля знаний. «Как если бы один землю вспашет, другой же засеет, а иные жнут и едят пищу неоскудевающую, – так и этот. Отец ведь его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Этот же засеял книжными словами сердца верующих людей, а мы пожинаем, учение принимая книжное»190. Встречается этот мотив и в других древних источниках. В «Житии Феодосия Печерского» читаем: «Так учил св. наставник свою братию; они же, как добрая земля, принимали семя словесе его и творили плоды, достойные покаяния»191. Сергий Радонежский, благодаря Божественной воле получивший знание грамоты от встреченного им святого старца, уподобляется «земле плодовитой и плодоносной, семена принявшей в сердце свое»192. Конечно, нельзя не вспомнить некрасовского «сеятеля знанья на ниву народную», которого поэт призывает «сеять разумное, доброе, вечное».