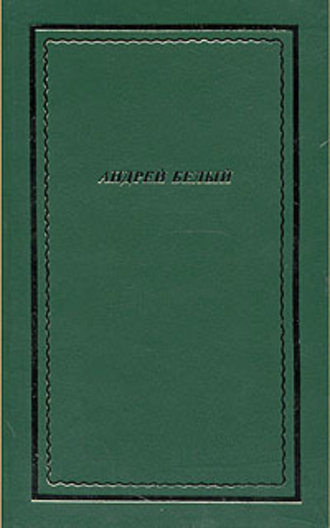
Андрей Белый
Полное собрание стихотворений
Менуэт
Вельможа встречает гостью.
Он рад соседке.
Вертя драгоценною тростью,
стоит у беседки.
На белом атласе сапфиры.
На дочках – кисейные шарфы.
Подули зефиры —
воздушный аккорд
Эоловой арфы.
Любезен, но горд,
готовит изящный сонет
старик.
Глядит в глубь аллеи, приставив лорнет,
надев треуголку на белый парик.
Вот… негры вдали показались —
все в красном – лакеи…
Идет в глубь аллеи
по старому парку.
Под шепот алмазных фонтанов
проходят сквозь арку.
Вельможа идет для встречи.
Он снял треуголку.
Готовит любезные речи.
Шуршит от шелку.
Март 1903
Москва
Прощание
Посвящается Эллису
Красавец Огюст,
на стол уронив табакерку,
задев этажерку,
обнявши подругу за талью, склонился
на бюст.
«Вы – радости, кои
Фортуна несла – далеки!..»
На клумбах левкои.
Над ними кружат мотыльки.
«Прости, мое щастье:
уйдет твой Огюст…»
Взирает на них без участья
холодный и мраморный бюст.
На бюсте сем глянец…
«Ах, щастье верну!..
Коль будет противник, его, как гишпанец,
с отвагою, шпагой проткну…
Ответишь в день оный,
коль, сердце, забудешь меня».
Сверкают попоны
лихого коня.
Вот свистнул по воздуху хлыстик.
Помчался
и вдаль улетел.
И к листику листик
прижался:
то хладный зефир прошумел.
«Ах, где ты, гишпанец мой храбрый?
Ах, где ты, Огюст?»
Забыта лежит табакерка…
Приходят зажечь канделябры…
В огнях этажерка
и мраморный бюст.
Апрель 1903
Москва
Полунощницы
Посвящается А.А. Блоку
На столике зеркало, пудра, флаконы,
что держат в руках купидоны,
белила,
румяна…
Затянута туго корсетом,
в кисейном девица в ладоши забила,
вертясь пред своим туалетом:
«Ушла… И так рано!..
Заснет и уж нас не разгонит…
Ах, котик!..»
И к котику клонит
свои носик и ротик…
Щебечет другая
нежнее картинки:
«Ма chere, дорогая —
сережки, корсажи, ботинки!
Уедем в Париж мы…
Там спросим о ценах…»
Блистают
им свечи.
Мелькают
на стенах
их фижмы
и букли, и плечи…
«Мы молоды были…
Мы тоже мечтали,
но кости заныли,
прощайте!..» —
старушка графиня сказала им басом…
И все восклицали:
«Нет, вы погадайте…»
И все приседали,
шуршали атласом
«Ведь вас обучал Калиостро…»
– «Ну, карты давайте…»
Графиня гадает, и голос звучит ее трубный,
очами сверкает так остро.
«Вот трефы, вот бубны…»
На стенах портреты…
Столпились девицы с ужимками кошки.
Звенят их браслеты,
горят их сережки.
Трясется чепец, и колышатся лопасти кофты.
И голос звучит ее трубный:
«Беги женихов ты…
Любовь тебя свяжет и сетью опутает вервий.
Гаси сантимента сердечного жар ты…
Опять те же карты:
Вот бубны,
вот черви…»
Вопросы… Ответы…
И слушают чутко…
Взирают со стен равнодушно портреты…
Зажегся взор шустрый…
Темно в переходах
и жутко…
И в залах на сводах
погашены люстры…
И в горнице тени трепещут…
И шепчутся. «Тише,
вот папа
услышит, что дочки ладонями плещут,
что возятся ночью, как мыши,
и тешат свой норов…
Вот папа
пришлет к нам лакея «арапа»
Притихли, но поздно:
в дали коридоров
со светом в руках приближаются грозно.
Шатаются мраки…
Арапы идут и – о Боже! —
вот шарканье туфель доносится грубо,
смеются их черные рожи,
алеют их губы,
мелькают пунцовые фраки…
1903
Серебряный Колодезь
Променад
Красотка летит вдоль аллеи
в карете своей золоченой.
Стоят на запятках лакеи
в чулках и в ливрее зеленой.
На кружевах бархатной робы
всё ценные камни сияют.
И знатные очень особы
пред ней треуголку снимают.
Карета запряжена цугом…
У лошади в челке эгретка
В карете испытанным другом
с ней рядом уселась левретка.
На лошади взмыленно снежной
красавец наездник промчался,
он, ветку акации нежной
сорвав на скаку, улыбался.
Стрельнул в нее взором нескромно…
В час тайно условленной встречи,
напудренно-бледный и томный, —
шепнул ей любовные речи
В восторге сидит онемелом…
Карета на запад катится…
На фоне небес бледно-белом
светящийся пурпур струится
Ей грезится жар поцелуя…
Вдали очертаньем неясным
стоит неподвижно статуя,
охвачена заревом красным.
1903
Серебряный Колодезь
Ссора
Посвящается М.И. Балтрушайтис
Заплели косицы змейкой
графа старого две дочки.
Поливая клумбы, лейкой
воду черпают из бочки.
Вот садятся на скамейку,
подобрав жеманно юбки,
на песок поставив лейку
и сложив сердечком губки.
Но лишь скроется в окошке
образ строгий гувернантки, —
возникают перебранки
и друг другу кажут рожки.
Замелькали юбки, ножки,
кудри, сглаженные гребнем…
Утрамбованы дорожки
мелким гравием и щебнем.
Всюду жизнь и трепет вешний,
дух идет от лепесточков,
от голубеньких цветочков,
от белеющей черешни.
И в разгаре перебранки
языки друг Другу кажут…
Строгий возглас гувернантки:
«Злые дети, вас накажут!..»
Вечер. Дом, газон, кусточек
тонут в полосах тумана.
«Стонет сизый голубочек», —
льется звонкое сопрано.
И субтильные девицы,
подобрав жеманно юбки,
как нахохленные птицы,
в дом идут, надувши губки.
Апрель 1903
Москва
Заброшенный дом
Заброшенный дом.
Кустарник колючий, но редкий.
Грущу о былом:
«Ах, где вы – любезные предки?»
Из каменных трещин торчат
проросшие мхи, как полипы.
Дуплистые липы
над домом шумят.
И лист за листом,
тоскуя о неге вчерашней,
кружится под тусклым окном
разрушенной башни.
Как стерся изогнутый серп
средь нежно белеющих лилий —
облупленный герб
дворянских фамилий.
Былое, как дым…
И жалко.
Охрипшая галка
глумится над горем моим.
Посмотришь в окно —
часы из фарфора с китайцем.
В углу полотно
с углем нарисованным зайцем.
Старинная мебель в пыли,
да люстры в чехлах, да гардины…
И вдаль отойдешь… А вдали —
равнины, равнины.
Среди многоверстных равнин
скирды золотистого хлеба.
И небо…
Один.
Внимаешь с тоской
обвеянный жизнию давней,
как шепчется ветер с листвой,
как хлопает сорванной ставней.
Июнь 1903
Серебряный Колодезь
Сельская картина
М. А. Эртелю
Сквозь зелень воздушность одела
их пологом солнечных пятен.
Старушка несмело
шепнула: «День зноен, приятен…»
Девица
клубнику варила средь летнего жара.
Их лица
омыло струею душистого пара.
В морщинах у старой змеилась
как будто усмешка…
В жаровне искрилась,
дымя, головешка.
Зефир пролетел тиховейный…
Кудрявенький мальчик
в пикейной
матроске к лазури протягивал пальчик:
«Куда полетела со стен ты,
зеленая мушка?»
Чепца серебристого ленты,
вспотев, распускала старушка.
Чирикнула птица.
В порыве бескрылом
девица
грустила о милом.
Тяжелые косы,
томясь, через плечи она перекинула разом.
Звенящие, желтые осы
кружились над стынущим тазом.
Девица за ласточкой вольной
следила завистливым оком,
грустила невольно
о том, что разлучены роком.
Вдруг что-то ей щечку ужалило больно —
она зарыдала,
сорвавши передник…
И щечка распухла.
Варенье убрали на ледник,
жаровня потухла.
Диск солнца пропал над лесною опушкой,
ребенка лучом искрометным целуя.
Ребенок гонялся
за мушкой
средь кашек.
Метался,
танцуя,
над ним столб букашек.
И вот дуновенье
струило прохладу
волною.
Тоскливое пенье
звучало из тихого саду.
С распухшей щекою
бродила мечтательно дева.
Вдали над ложбиной —
печальный, печальный —
туман поднимался к нам призраком длинным.
Из птичьего зева
забил над куртиной
фонтанчик хрустальный,
пронизанный златом рубинным.
Средь розовых шапок левкоя
старушка тонула забытым мечтаньем.
И липы былое
почтили вздыханьем.
Шептала
старушка: «Как вечер приятен!»
И вот одевала
заря ее пологом огненных пятен.
1904
Москва
Воспоминание
Посвящается Л.Д. Блок
Задумчивый вид:
Сквозь ветви сирени
сухая известка блестит
запущенных барских строений.
Всё те же стоят у ворот
чугунные тумбы.
И нынешний год
всё так же разбитые клумбы.
На старом балкончике хмель
по ветру качается сонный,
да шмель
жужжит у колонны.
Весна.
На кресле протертом из ситца
старушка глядит из окна.
Ей молодость снится.
Всё помнит себя молодой —
как цветиком ясным, лилейным
гуляла весной
вся в белом, в кисейном.
Он шел позади,
шепча комплименты.
Пылали в груди
ее сантименты.
Садилась, стыдясь,
она вон за те клавикорды.
Ей в очи, смеясь,
глядел он, счастливый и гордый.
Зарей потянуло в окно.
Вздохнула старушка:
«Всё это уж было давно!..»
Стенная кукушка,
хрипя,
кричала.
А время, грустя,
над домом бежало, бежало…
Задумчивый хмель
качался, как сонный,
да бархатный шмель
жужжал у колонны.
1903
Москва
Отставной военный
Вот к дому, катя по аллеям,
с нахмуренным Яшкой —
с лакеем,
подъехал старик, отставной генерал с деревяшкой.
Семейство,
чтя русский
обычай, вело генерала для винного действа
к закуске.
Претолстый помещик, куривший сигару,
напяливший в полдень поддевку,
средь жару
пил с гостем вишневку.
Опять вдохновенный,
рассказывал, в скатерть рассеянно тыча окурок,
военный
про турок:
«Приехали в Яссы…
Приблизились к Турции…»
Вились вкруг террасы
цветы золотые настурции.
Взирая
на девку блондинку,
на хлеб полагая
сардинку,
кричал
генерал:
«И под хохот громовый
проснувшейся пушки
ложились костьми батальоны…»
В кленовой
аллее носились унылые стоны
кукушки.
Про душную страду
в полях где-то пели
так звонко.
Мальчишки из саду
сквозь ели,
крича, выгоняли теленка.
«Не тот, так другой
погибал,
умножались
могилы», —
кричал,
от вина огневой.
Наливались
на лбу его синие жилы.
«Нам страх был неведом…
Еще на Кавказе сжигали аул за аулом…»
С коричневым пледом
и стулом
в аллее стоял,
дожидаясь,
надутый лакей его, Яшка.
Спускаясь
с террасы, военный по ветхим ступеням стучал
деревяшкой.
1904
Москва
Незнакомый друг
Посвящается П.Н. Батюшкову
I
Мелькают прохожие, санки…
Идет обыватель из лавки
весь бритый, старинной осанки…
Должно быть, военный в отставке.
Калошей стучит по панели,
мальчишкам мигает со смехом
в своей необъятной шинели,
отделанной выцветшим мехом.
II
Он всюду, где жизнь, – и намедни
Я встретил его у обедни.
По церкви ходил он с тарелкой…
Деньгою позвякивал мелкой…
Все знают про замысел вражий,
он мастер рассказывать страсти…
Дьячки с ним дружатся – и даже
квартальные Пресненской части.
В мясной ему все без прибавки —
Не то что другим – отпускают…
И с ним о войне рассуждают
хозяева ситцевой лавки…
Приходит, садится у окон
с улыбкой, приветливо ясный…
В огромный фулярово-красный
сморкается громко платок он.
«Китаец дерется с японцем…
В газетах об этом писали…
Ох, что ни творится под солнцем…
Недавно… купца обокрали»…
III
Холодная, зимняя вьюга.
Безрадостно-темные дали.
Ищу незнакомого друга,
исполненный вечной печали…
Вот яростно с крыши железной
рукав серебристый взметнулся,
как будто для жалобы слезной
незримый в хаосе проснулся, —
как будто далекие трубы
Оставленный всеми, как инок,
стоит он средь бледных снежинок,
подняв воротник своей шубы…
IV
Как часто средь белой метели,
детей провожая со смехом,
бродил он в старинной шинели,
отделанной выцветшим мехом…
1903
Москва
Весна
Всё подсохло И почки уж есть.
Зацветут скоро ландыши, кашки.
Вот плывут облачка, как барашки.
Громче, громче весенняя весть.
Я встревожен назойливым писком:
Подткнувшись, ворчливая Фекла,
нависая над улицей с риском,
протирает оконные стекла.
Тут известку счищают ножом…
Тут стаканчики с ядом… Тут вата…
Грудь апрельским восторгом объята.
Ветер пылью крутит за окном.
Окна настежь – и крик, разговоры,
и цветочный качается стебель,
и выходят на двор полотеры
босиком выколачивать мебель.
Выполз кот и сидит у корытца,
умывается бархатной лапкой.
Вот мальчишка в рубашке из ситца,
пробежав, запустил в него бабкой.
В небе свет предвечерних огней.
Чувства снова, как прежде, огнисты.
Небеса все синей и синей,
Облачка, как барашки, волнисты.
В синих далях блуждает мой взор.
Все земные стремленья так жалки…
Мужичонка в опорках на двор
с громом ввозит тяжелые балки.
1903
Москва
Из окна
Гляжу из окна я вдоль окон:
здесь – голос мне слышится пылкий
и вижу распущенный локон…
Там вижу в окне я бутылки…
В бутылках натыкана верба.
Торчат ее голые прутья.
На дворике сохнут лоскутья…
И голос болгара иль серба
гортанный протяжно рыдает…
И слышится. «Шум на Марица…»
Сбежались А сверху девица
с деньгою бумажку бросает.
Утешены очень ребята
прыжками цепной обезьянки.
Из вечно плаксивой Травьяты
мучительный скрежет шарманки.
Посмотришь на даль – огороды
мелькнут перед взором рядами,
заводы, заводы, заводы!..
Заводы блестят уж огнями.
Собравшись пред старым забором,
портные расселись в воротах.
Забыв о тяжелых заботах,
орут под гармонику хором.
1903
Свидание
На мотив из Брюсова
Время плетется лениво.
Всё тебя нету да нет.
Час простоял терпеливо.
Или больна ты, мой свет?
День-то весь спину мы гнули,
а к девяти я был здесь…
Иль про меня что шепнули?..
Тоже не пил праздник весь…
Трубы гремят на бульваре.
Пыль золотая летит.
Франтик в истрепанной паре,
знать, на гулянье бежит.
Там престарелый извозчик
парня в участок везет.
Здесь оборванец разносчик
дули и квас продает.
Как я устал, поджидая!..
Злая, опять не пришла…
Тучи бледнеют, сгорая,
Стелется пыльная мгла.
Вечер Бреду одиноко.
Тускло горят фонари.
Там… над домами… далеко
узкая лента зари.
Сердце сжимается больно.
Конка протяжно звенит.
Там… вдалеке… колокольня
образом темным торчит.
1902
Кошмар среди бела дня
Солнце жжет Вдоль тротуара
под эскортом пепиньерок
вот идет за парой пара
бледных, хмурых пансионерок.
Цепью вытянулись длинной,
идут медленно и чинно —
в скромных, черненьких ботинках,
в снежно-белых пелеринках…
Шляпки круглые, простые,
заплетенные косицы —
точно все не молодые,
точно старые девицы.
Глазки вылупили глупо,
спины вытянули прямо.
Взглядом мертвым, как у трупа,
смотрит классная их дама.
«Mademoisell Nadine, tenez voue
Droit»[1]… И хмурит брови строже.
Внемлет скучному напеву
обернувшийся прохожий…
Покачает головою,
удивленно улыбаясь…
Пансион ползет, змеею
между улиц извиваясь.
1903
Москва
На окраине города
Был праздник: из мглы
неслись крики пьяниц.
Домов огибая углы,
бесшумно скользил оборванец.
Зловещий и черный,
таская короткую лесенку,
забегал фонарщик проворный,
мурлыча веселую песенку.
Багрец золотых вечеров
закрыли фабричные трубы
да пепельно-черных домов
застывшие клубы.
1904
Образы
Великан
1
«Поздно уж, милая, поздно усни:
это обман…
Может быть, выпадут лучшие дни.
Мы не увидим их… Поздно… усни…
Это – обман».
Ветер холодный призывно шумит,
холодно нам…
Кто-то, огромный, в тумане бежит…
Тихо смеется. Рукою манит.
Кто это там?
Сел за рекою. Седой бородой
нам закивал
и запахнулся в туман голубой.
Ах, это, верно, был призрак ночной…
Вот он пропал.
Сонные волны бегут на реке.
Месяц встает.
Ветер холодный шумит в тростнике.
Кто-то, бездомный, поет вдалеке,
сонный поет.
«Всё это бредни… Мы в поле одни.
Влажный туман
нас, как младенцев, укроет в тени…
Поздно уж, милая, поздно. Усни.
Это – обман…»
Март 1901
Москва
2
Сергею Михайловичу Соловьеву
Бедные дети устали:
сладко заснули.
Сонные тополи в дали
горько вздохнули,
мучимы вечным обманом,
скучным и бедным…
Ветер занес их туманом
мертвенно-бледным.
Там великан одинокий,
низко согнувшись,
шествовал к цели далекой,
в плащ запахнувшись.
Как он, блуждая, смеялся
в эти минуты…
Как его плащ развевался,
ветром надутый.
Тополи горько вздохнули…
Абрис могучий,
вдруг набежав, затянули
бледные тучи.
3
Средь туманного дня,
созерцая минувшие грезы,
близ речного ручья
великан отдыхал у березы.
Над печальной страной
протянулись ненастные тучи.
Бесприютной главой
он прижался к березе плакучей.
Горевал исполин.
На челе были складки кручины.
Он кричал, что один,
что он стар, что немые годины
надоели ему…
Лишь заслышат громовые речи, —
точно встретив чуму,
все бегут и дрожат после встречи.
Он – почтенный старик,
а еще не видал теплой ласки.
Ах, он только велик…
Ах, он видит туманные сказки.
Облака разнесли
этот жалобный крик великана.
Говорили вдали:
«Это ветер шумит средь тумана».
Проходили века.
Разражались ненастные грозы.
На щеках старика
заблистали алмазные слезы.
4
Потянуло грозой.
Горизонт затянулся.
И над знойной страной
его плащ растянулся.
Полетели, клубясь,
грозно вздутые скалы.
Замелькал нам, искрясь,
из-за тучи платок его алый.
Вот плеснул из ведра,
грозно ухнув на нас для потехи:
«Затопить вас пора…
А ужо всем влетит на орехи!»
Вот нога его грузным столбом
где-то близко от нас опустилась,
и потом
вновь лазурь просветилась.
«До свиданья! – кричал. —
Мы увидимся летними днями…»
В глубину побежал,
нам махнув своей шляпой с полями.
5
В час зари на небосклоне,
скрывши лик хитоном белым,
он стоит в своей короне
замком грозно-онемелым.
Солнце сядет. Всё притихнет.
Он пойдет на нас сердито.
Ветром дунет, гневом вспыхнет,
сетью проволок повитый
изумрудно-золотистых,
фиолетово-пурпурных.
И верхи дубов ветвистых
зашумят в движеньях бурных.
Не успев нас сжечь огнями,
оглушить громовым ревом,
разорвется облаками
в небе темно-бирюзовом.
1902
Не страшно
Боль сердечных ран,
и тоска растет.
На полях – туман
Скоро ночь сойдет.
Ты уйдешь, а я
буду вновь один…
И пройдет, грозя,
меж лесных вершин
великан седой:
закачает лес,
склон ночных небес
затенит бедой.
Страшен мрак ночной,
коли нет огня…
Посиди со мной,
не оставь меня!..
Буйный ветер спит.
Ночь летит на нас…
Сквозь туман горит
пара красных глаз —
страшен мрак ночной,
коли нет огня…
Посиди со мной,
не оставь меня!
Мне не страшно, нет…
Ты как сон… как луч…
Брызжет ровный свет
из далеких туч…
Надо спать… Всё спит…
Я во сне…
…Вон там
великан стоит
и кивает нам.
Май 1900
Москва
Поединок
Посвящается Эллису
1
Из дали грозной Тор воинственный
грохочет в тучах.
Пронес огонь – огонь таинственный
на сизых кручах.
Согбенный викинг встал над скатами,
над темным бором,
горел сияющими латами
и спорил с Тором.
Бродил по облачному городу,
трубил тревогу.
Вцепился в огненную бороду
он Тору-богу.
И ухнул Тор громовым молотом,
по латам медным,
обсыпав шлем пернатый золотом
воздушно-бледным:
«Швырну расплавленные гири я
с туманных башен…»
Вот мчится в пламени валькирия.
Ей бой не страшен.
На бедрах острый меч нащупала.
С протяжным криком
помчалась с облачного купола,
сияя ликом.
2
Ослепший викинг встал над скалами,
спаленный богом.
Трубит печально над провалами
загнутым рогом.
Сердитый Тор за белым глетчером
укрылся в туче.
Леса пылают ясным вечером
на дальней круче.
Извивы лапчатого пламени,
танцуя, блещут:
так клочья палевого знамени
в лазури плещут.
Октябрь 1903
Москва
Битва
В лазури проходит толпа исполинов на битву.
Ужасен их облик, всклокоченный, каменно-белый.
Сурово поют исполины седые молитву.
Бросают по воздуху красно-пурпурные стрелы.
Порою товарищ, всплеснув мировыми руками,
бессильно шатается, дружеских ищет объятий:
порою, закрывшись от стрел дымовыми плащами,
над телом склоняются медленно гибнущих братий!..
…………………………
Дрожала в испуге земля от тяжелых ударов.
Метались в лазури бород снегоблещущих клоки
– и нет их. пронизанный тканью червонных пожаров,
плывет многобашенный город, туманно-далекий.
Июль 1903
Серебряный Колодезь
Пригвожденный ужас
Давно я здесь в лесу – искатель счастья.
В душе моей столетние печали.
Я весь исполнен ужасом ненастья.
На холм взошел, чтоб лучше видеть дали.
Глядит с руин в пурпурном карлик вещий
с худым лицом, обросшим белым мохом.
Торчит изломом горб его зловещий.
Сложив уста, он ветру вторит вздохом.
Так горестно, так жалобно взывает:
«Усни, мечтатель жалкий, – поздно, поздно»…
Вампир пищит, как ласточка, шныряет
вокруг него безжизненно и грозно.
Ревут вершины в ликованье бурном.
Погасли в тучах горние пожары.
Горбун торчит во мгле пятном пурпурным.
На горб к нему уселся филин старый…
Молился я… И сердце билось, билось.
С вампирным карлом бой казался труден…
Был час четвертый Небо просветилось.
И горизонт стал бледно-изумруден.
Я заклинал, и верил я заклятью.
Молил творца о счастии безбурном.
Увидел вдруг – к высокому распятью
был пригвожден седой вампир в пурпурном.
Я возопил восторженно и страстно:
«Заря, заря!… Вновь ужас обессилен!..»
И мне внимал распятый безучастно.
Вцепившись в крест, заплакал старый филин.
1903
На горах
Горы в брачных венцах.
Я в восторге и молод.
У меня на торах
очистительный холод.
Вот ко мне на утес
притащился горбун седовласый.
Мне в подарок принес
из подземных теплиц ананасы.
Он в малиново-ярком плясал,
прославляя лазурь.
Бородою взметал
вихрь метельно-серебряных бурь.
Голосил
низким басом.
В небеса запустил
ананасом.
И, дугу описав,
озаряя окрестность,
ананас ниспадал, просияв,
в неизвестность,
золотую росу
излучая столбами червонца.
Говорили внизу:
«Это – диск пламезарного солнца…»
Низвергались, звеня,
омывали утесы
золотые фонтаны огня —
хрусталя
заалевшего росы.
Я в бокалы вина нацедил
и, подкравшися боком,
горбуна окатил
светопенным потоком.
1903
Москва
Вечность
Шумит, шумит знакомым перезвоном
далекий зов, из Вечности возникший.
Безмирнобледная, увитая хитоном
воздушночерным, с головой поникшей
и с урной на плечах, глухим порывом
она скользит бесстрашно над обрывом.
Поток вспененный мчится
серебряной каймой.
И ей все то же снится
над бездной роковой.
Провалы, кручи, гроты
недвижимы, как сон.
Суровые пролеты
тоскующих времен.
Все ближе голос Вечности сердитой…
Оцепенев, с улыбкою безбурной,
с душой больной над жизнию разбитой —
над старой, опрокинутою урной —
она стоит у пропасти туманной
виденьем черным, сказкою обманной.
1902
Маг
В. Я. Брюсову
Я в свите временных потоков,
мой черный плащ мятежно рвущих.
Зову людей, ищу пророков,
о тайне неба вопиющих.
Иду вперед я быстрым шагом,
И вот – утес, и вы стоите
в венце из звезд упорным магом,
с улыбкой вещею глядите.
У ног веков нестройный рокот,
катясь, бунтует в вечном сне.
И голос ваш – орлиный клекот —
растет в холодной вышине.
В венце огня над царством скуки,
над временем вознесены —
застывший маг, сложивший руки,
пророк безвременной весны.
1903
1. Мадемуазель Надин, держитесь прямо (фр.)







