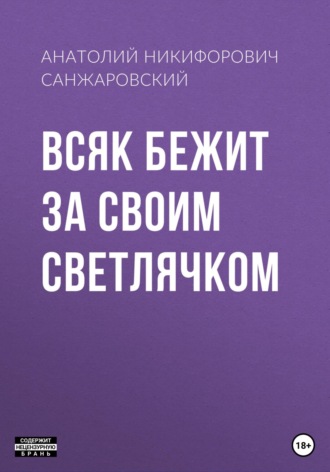
Анатолий Никифорович Санжаровский
Всяк бежит за своим светлячком
15
У букв закона свой прейскурант цен.
Б. Крутиер
В мире не одни двери.
И куда я ни стучался, нигде я не нужен.
В студентах не нужен.
В грузчиках не нужен.
В сантехниках не нужен.
В журналистах не нужен.
Растерянность морозом жгла мне душу.
Где же я нужен? Неужели я во всём такой горький неумёха, что нигде-нигде совсем-совсем не нужен? Никому, ни одной душе? Что же это за родная, родовая, сторона, где я всем чужой, где всё отворачивается от меня?
Мама… Мамушка…
Если б Вы только знали, как я устал от вокзала, от парка, от бездомья… Если б Вы только знали, как я бедствую… С каким счастьем влетел бы я в вагон и увеялся в Насакиралики… Но с какими глазами подойдёшь к проводнику без билета?.. Мне не на что купить билет домой… Иль домой мне «пути все заказаны»?
Уже двенадцатый день без угла мыкаюсь я по чужому городу…
А ночь идёт, так и не знаешь, где и приткнёшь голову, где и перебедуешь до света… До нового дня…
Вы никогда не оставляли нас в беде. А что же сейчас?.. Неужели у Вас в сердце ничего не варится? Неужели оно не видит, как мне тут?..
Я один, я совсем один в большом чужом городе. Людей как мошки набито. Бегают в угаре туда-сюда, томошатся… Людей невпрогляд, да не подойдёшь, не попросишь взаймы на дорогу. Тут всякая копейка алтынным гвоздём прибита…
Чужой город не Насакирали.
Это там у нас и чужая болезнь к сердцу… Нету в обед на хлеб и без печали. Выскочишь на крыльцо… Хоть налево шатнись, хоть направо, а без соседского рубля не вернёшься.
Нету у Семисыновых – к Сапете Меликян. Нету у Сапеты – к Грачику… Дальше Простаковы. Дед Борисовский. Карапетяны. Алёшка Половинкин. Авакяны. Гавриленки. Скобличиха-маленькая. Скобличиха-большая. Федорка Солёная. Мамонтовы. Паша Дарчия… Без хлеба соседи не оставят. Всегда свежей копеюшкой разживёшься.
Почему же Вы, мамушка, не шлёте? Почему? Что случилось?
Вприскочку чикилял я к бабе Клане узнать про перевод.
Меня будто током прошило всего насквозь.
Бож-же!
Да какие в чертях деньги?!
Каких ещё денег я жду?!
Мне вдруг отчетливо вспомнилось…
С поезда мы сразу в университет. Сдали мои бумаги и легко вздохнули. Можно дух перевести!
Не спеша, враскачку побрели по Революции, глазея на город, как журай в кувшин. Скоро наткнулись на почтамт.
На тёмно-сером телеграфном бланке написали маме.
Мы писали, что вот документы мои приняли в университет, осталось малое, остался пустяк – принять меня. В городе пробудем до первой моей вступительной двойки.
Дальше мы докладывали, что сразу с почты двинемся искать квартиру, поэтому точного адреса своего пока не можем назвать. Ещё мы выразились в том смысле, что двойка – штука весьма мне доступная, вовсе не за семью печатками от меня, поэтому мы наверняка через несколько ближайших дней будем уже в конечном пункте нашего путешествия, в том месте, куда направят Митрика. И уж оттуда-то катанём обстоятельное послание, обязательно укажем адрес.
Мы добросовестно ждали двушку.
Но я совсем обнаглел. Из каждого экзамена изволил выжимать пятёрки. Каждое утро так и подмывало написать домой. Но мы всё откладывали, горячо веря, что не сегодня, так уж завтра обязательно схлопочу я лебедя[130] и уж тогда, с Митрофанова места, напишем.
Мы без края так много лалакали о будущем письме, что я уверовал – письмо написано. И про деньги тоже.
И я чистосердечно их ждал…
Я жадно перетасовываю все здешние наши дни, перетряхиваю. Не-ет… Не писали… Ни адреса, ни слова про деньги и – ждать! Балда осиновая… Ждал, чего не дождаться и в тыщу лет!
И впервые за двенадцать дней не пошёл я к бабе Клане узнавать про перевод. Вернулся с полдороги.
Ждать подмоги неоткуда.
Что же теперь?
Куда идти?
Как выбираться из этого омута?
Я бесцельно брёл по проспекту Революции.
Впереди вытянулось колом высокое здание, где была молодежная газета.
Может, зайти к Саше в редакцию, вымокрить слезами жилетку и он, глядишь, сунет чего на дорогу? Перехвачу взаймы, а там верну?
Не-ет…
Не дело, когда жалеют. Жалость обижает…
Было жарко, душно.
Я снял пиджак и, сложив, бросил на руку.
Из нутряного кармана, закрытого крупной булавкой, выскочил грязноватый, утасканный уголок комсомольского билета.
Я потянул руку, но почему-то не стал убирать билет с вида, не стал заталкивать билет поглубже в карман.
Этот ненароком выглянувший на свет крошечный помятый флажок шевельнул во мне струны, которые я никогда в себе не трогал. Ты ведь, подумал я, не сухой листочек, сорванный с дерева шалым ветром. Ты человек. Был юнкором молодёжной газеты. Как мог, так вроде и служил комсомолу. Так кому же нести свою беду?
В обкоме комсомола я почувствовал себя как-то спокойней, уверенней.
Лестница тут была без ковра.
Коридор не такой широкий, как в обкоме партии, и ковёр бедней, ýже. Однако я всё равно боялся на него ступать и в душе ликовал даже: по бокам дорожка не весь прикрывала жёлто крашенный пол, так что спокойно иди по жёлтой полоске. Правда, была она узкая, чуть просторней ладони, потому я медленно шёл, тесно обжимая одну ногу другой, стараясь идти строго по своей яркой стёжечке у самой стены.
Я не слышал, как меня нагнал мужчина лет тридцати. С лицом открытым, каким-то доверчивым. Тронул тихонько меня за локоть, доброулыбчиво сказал:
– Зачем же по стеночке?.. Ступайте по ковру. На то и лежит.
Я смутился. И всё же взял по краю ковра.
Мужчина не убирал с моего локтя свою тёплую руку, и, как-то уютно, неназойливо заглянув мне в лицо, просто спросил:
– Вы к первому?
– К первому…
– Я тоже туда, – ободряюще пожал он мне локоть и продолжал идти рядом, не выпуская моего локтя.
Мне почему-то подумалось, что он держал меня не потому, что нам с ним оказалось по пути, а потому, что сомневался, что один я дойду, куда шёл, и вёл меня. Шёл он уверенно, твёрдо, будто другого дела и не знал, как водил заблудившихся в людском штормовом море беспутных мальчишек вроде меня.
На подходе к двери он обогнал немного меня, открыл дверь, впустил меня первым.
Маленькая комнатка.
Из этой комнатки была ещё дверь. Он открыл и эту дверь, пропустил меня вперёд. У открытого окна пододвинул мне стул, сел сам. Лицо в лицо.
– Ну, – хорошо улыбнулся он, – рассказывайте, что у вас. Я и есть первый секретарь.
Я вовсе потерялся.
Это сам первый-то вёл меня под руку?
Я не мог открыть рта. Словно челюсти заклинило.
– Стесняться будете потом. А сейчас рассказывайте.
Сбивчиво, в подробностях выпел я всё. Даже про вокзальные ночи. Даже про княгиню Ногиню в гипсе.
Он покачал головой.
– Что же вы так? Поистине, простота хуже воровства. Не мне вас в этом кабинете учить, не вам слушать… Столько мучиться! Да я на вашем месте поехал бы, извините, зайцем! Налети ревизоры – честно, как мне, объясни всё что и как. Ей-пра, везде люди, живые люди! Поняли б, дали доехать!
Я пристыженно заозирался по сторонам, подымаясь уходить:
– Так я и сделаю… Извините…
– Э нет! – мягко дёрнул он меня за руку книзу! Садись. – Это б вы могли так сделать в тот день, когда вас выгнала жестокая старухенция. А сейчас, раз попали сюда… Поможем! Надо хорошенько обдумать… Сколько вам нужно на дорогу до Насакирали, на питание в пути?
– Это… слишком… дорого… – выдавил я.
– А что вы предлагаете? Дать на билет до половины пути?
– Нет… Это вообще вам дорого… Я лучше так… Доеду до брата в Каменку… И от брата к матери…
Секретарь нахмурился.
– А может, сразу езжайте к матери? Братец у вас… Как же так?.. Старше на шесть лет… Он вам вместо отца… Кто как не он должен заботиться? А он? Оставить в чужом городе без рубля! Это…
– Может, у него тоже не было денег, – потупился я.
– Может быть. Допускаю. Но! – ткнул он вверх пальцем. – Так он же приехал на своё предприятие, мог получить подъёмные сразу и навестить вас. Здесь же дороги полтора часа! У вас уже двенадцать дней назад кончились вступительные! Где вы пропадаете всё это время? Это его забеспокоило? Что же это такой за бездушный молодой специалист?.. Не-ет!.. Мы по своим каналам выясним, через райком комсомола, почему он так отнёсся к младшему брату! А вам мой совет… – секретарь вяло прихлопнул ладонью по спинке стула, на котором я сидел, – может, едьте прямушкой к матери? Мы плотненько подумаем, может, и поможем…
Я понял, ничем они мне тут и не собираются помогать. Вряд ли дело пустят дальше подмётных выяснений.
– Пожалуйста, – заныл я, – не нужно ничего выяснять… Мало ли… Я поеду к брату. В Каменку при станции Евдаково. Это и вам дешевле… Безо всякой бумажной стряпни… Я ничего у вас не возьму. Я и так доеду… Как вы учили… Зайчиком…
– Так, похоже, и быстрее…
16
Не женись по расчету – не рассчитаешься!
Б. Крутиер
Я ехал проститься со Светлячком. Ехал на трамвае. И нога-княгиня побаливала ещё в гипсе, да и чего колыхаться-кланяться пехотинцем, когда можно ехать зайцем в законе?
Своими пламенными речами секретарь так поднял во мне боевой заячий дух, что я любого медведя из контрольного кодляка свалю одной левой. Нету билета и не приставай! Будут шмели[131] – заплачу! Спасибо комсомолу, в мой чёрный час подал мне бесценный совет, не побрезговал.
И вот за всё время, что маюсь я в городе, первый раз еду на трамвае, еду герой героем. Без билета – как с билетом! Никого и ничего не боюсь!
Еду и слышу, как кто-то кладёт мне руку на плечо – я сидел за задней площадкой.
– Бах! Хваталин! Жених!.. Когда на свадьбу позовёшь?! – ору во всю глотку. У меня хоть и мал кадык, а рёву в нём с воз, если понатужусь. – Когда, Ермак Тимофеич? Ну, казачий атаман?!
Королевский женишок кислую даёт отмашку.
– Что так? – недоумеваю.
– Потерпел фетяску! Подал в отставку! Развелись, свадьбы не дождамшись… Я, бесшансовый, придал ускорение. Разошлись, как в речке два толстолобика.
– То есть?
– Ё, кэ, лэ, мэ, нэ!.. Полный уссывон! Это тыща и одна ночь!
– А что дама, которой ты был объят?
– Прикинулась дохлой рыбкой… Делишки у неё рыдательные. С её маринованным урыльником на что рассчитывать? Да ну её!.. Эх! Сейчас бы пивка для рывка, бутылочку водчонки для обводчонки и бутылочку сухого для подачи углового!
– А всё-таки? Что она говорит?
– Молчит моя метёлка. Молчит, как пятак в кошельке. Ещё бы ей мокрый хвосток подымать… Веришь… Я тогда про эту хромосому волосатую тебе ещё ничё такого кипячёного и не сказал… Так, не бабёшка, а охапка тоскливых костей. Больно охота на таку кидаться! Не пёс… Да еслив одне кости, а то ещё и… Припадает, хромает, как инвалидка Великой Отечественной. Ей-бо! Да еслив только кости да нога, а то ещё и глаз. Чуть не соломой затыкая. В бельме… А чуланиты!?[132] Не могу видеть… Эвот так и подмывает бросить на них спичку. Горящую! Бросил и чеши фокстротом!.. Еслив тольки кости, нога, бельмо да чуланиты… А то ещё и груди у этой бородули…
– А что груди?
– А то, что их, этих басов, вовсю нету! Ни сверху, ни снизу! Так… один художественный свист. Не груди, а прыщики. Плоскодонка!.. Гладильная доска!..
– Извини! Куда ж они сбежали? Раньше ты как про них мне пел? Не груди – двустволка! Стоят, как часовые! Царственные, гордые!
– Были, да все вышли…
– То есть?
– Потерялась пипочка от грудей, они и сели прыщиками. Воздушек-то тю-тю… Потому как надувные были-с… Всё там надувное у этих дубоплясов! Чуть и меня не надули! Есть же страхолюдины… Во ба поджанилси бабальник на таковской мочалке… Форменная глиста в скафандре!.. Ни… Уж никакой кобелино не отбил ба! Давись дерьмом всю красну жизню! Больно надо… Болт я на неё положил! На мой век конфеток хватя! Да я отхвачу себе совьетто-ебалетто-шик![133]
– И царёва дача уплыла?
– По-оплыла-а… по Иртышу… Иди всё хинью!.. Помахаю вот сейчас в последний раз ручкой… И ножкой!.. Дури-и-ина!.. Одноклеточный!.. Воистинку прихлопнутай на цвету… Не с дачей же жить-миловаться!
– Так из-за чего же вы разбежались?
Бедовар опало качнул рукой.
– Там тестюшка – оторви собаке хвост! Кипятком мутант писает! Эвот и переколомутил всё … Письмённый больно! Переучили этого взвихрённого в церковно-приходской академии!
– А ты ж говорил, что он вроде простуня?
– Ага, недоструганный Буратинка!.. Там тако-ой простой, как три копейки одной бумажкой! Копчё-ёный во всех дымах! Делова-ар… Занудней любого копача.[134] Грозился задвинуть меня в чалкину деревню…[135] А из чего всё пыхнуло?.. А из-за чего поднялся этот гундёж?.. Я тебе вкратцах… Помнишь, я те рассказывал, отмечали мы день именин соседского кота? Сла-авночко наотмечался я… Мяу не мог сказать! Не пошёл я на второй день на работу. Не сгодился в работу и на третий. Ну, за день оклемалси, а вечером приходит паря-сосед, из того дома, где кота отмечали, и зовёт на свой уже день. Деньрожденец! Без булды. На деньрожку зовё. Не на столетие русской балалайки… Вишь, полоса днёв… Эвот и запой, завал у членопотама… День то у одного кота, то у другого… Я и на третье… пардону подай… я и на четвёртое весёлое утрецо не сгодись в копайтен унд кидайтен. Тестюшка, погостный жук, и взвейсь синим костром. Там побелел, как вша змеиная. Не отдам алкашке дочкю! В работу не лезет, ходит хиньями по-за тыньями!.. И завёл этот брахмапутра такую арию Хозе из оперы Бизе!.. Не отдам! Не отдам!.. Да и не надо. Ну какой обалдуйка отымает ё у тебя?! Пойду наперекорки судьбе! Немного побегал с ними под один плетень и горшок об горшок. А то он ещё учить меня будет!.. Я этому брахме[136] ясно ломанул: «Каждый дрочит, как он хочет! И отвянь от меня!» Вот такое вазелиновое кино… Разлюбезнику тестюне че-естно поднёс под самый киль![137] – выставил он кукиш. – Помнить до-олго будет меня эта Чубляндия…Э-этот честный сектор, несчастная куркульня… День-ночь без продыху и пашут, и пашут, и пашут, как перед концом света. Там ба у меня была житуха, как у седьмой жены в гареме! Таковски тяжеленная! Сналыгали б и заездили вусмерть. Что Боженька ни делай, всё на лучшее выскочит… Пускай оне раздобудут своей Лёлечке другого такого меднолобика, – он с силой и с укорным отчаянием подолбил себя кулаком в лоб, – а я отхвачу себе зажигалку конфетулечку, – он поцеловал сведённые вместе три пальца, – со всеми удобствиями! Такой мой зюгзаг. Что я, чубрик, какой некультяпистый? Или мушками засиженный? Буду глядеть, чтоб забавушка была пухнатенькая да круглявенькая, как поварёшка. Тверда моя новая линия… Мне участочек отвалили с полтвоего Люксембурга! Раз плюнуть серенадку Солнечной долины найти… У Хваталина снайперская пуля всегда в карауле… А по Олюне сердчишко из прынцыпа не тукая… Не-е, не тукая! У меня всё крепенькое, хоть знак качества припечатывай… Как-то погасил жар в груди, нагужевался до бобиков – загулял трахтибидох! – да с полного роста слетел с копытков на асфальт. Головкой об бордюрчик. Думаешь, у кого бобо плюс сотрясение? Думаешь, у кого прогиб? У бордюрчика… Вот зараз заберу свои последние там тапочки-тряпочки и чао, какао, здоров, кефир! Как хорошо, что утконосый Коржов не сдал тебе моё место. Как чуял, приберёг для испытанного, старого кадра…
Только тут меня осенило.
– Послушай, горький мой милостивец, – погладил я его по руке, – что-то не пойму… Ты второй год в общежитии?
– Второй.
– Тебя что, оставили на второй год в училище?
– Сморозишь… Да меня было досрочно не выперли за величайшие успехи! Еле уцелел… На санчика[138] всего год мучиться. На второй и просись – не оставят. Кончил, катнули в работу. Жилья не дали пока. Эвот в коржовке я и токую. У нас таких полна коробенция. Уже работают, а квартирят в училищном общежитии. До времени, конечно. Уйду, как работа подаст угол, а лучше отбыть с почётом на хату к какой-нибудь виннепухочке. Вот лётаю по вызовам на своём участке, приглядываюсь, как к банку, ко всем сдобам. Как нарвусь по вкусу, так я её, горяченькую витаминку Ц,[139] и в за-агсок… Ну… – трамвай заметно срезал бег, – моя остановка…
Хваталин без аппетита подвигал, покивал двумя толстыми, рачьими пальцами:
– Ку-ку… Чеши фокстротом!
Так уж водится, что самое главное узнаёшь в крайнюю минуту.
Мы прощались со Светлячком за руку, когда глухой, размытый звон послышался совсем где-то рядом, внизу, и так близко, так тихо, что, казалось, раздался он во мне. Я машинально цап за карман и накрыл у себя в кармане другую, свободную, ручонку девочки.
– Ты-ы?! – изумился я.
Светлячок съежилась, в страхе надула губки.
– Я ничего у вас не брала… – пролепетала она, еле удерживая уже подступившие слёзы.
– Верю. В пустом кармане ничего не возьмёшь, – ответил я, преотлично помня, что и номерок из камеры хранения, и несколько ещё выживших моих последних монеток были перехвачены бечёвкой по низу кармана. – Зато… – я растерянно достал из кармана шесть или семь ещё тёплых белых двадцаточек, – зато я теперь знаю свою тайную благодетельницу… Это ты скрыто подбрасывала мне в карман денежки? Ты?..
Света долго сопела, не хотела сознаваться, но в конце концов еле кивнула и конфузливо отвернулась в сторону.
Я опустился перед нею на корточки, прижался щекой к щеке. С минуту я не мог вымолвить слова, потом тихонько, вшёпот спросил:
– Откуда у тебя деньги?.. Ты…
– Скажете, крала дома? – опередила она мой мучительный вопрос и фыркнула: – Вот ещё охота красть! Да мне мамка с папкой сами дают на морожено. Я не покупала… А ещё я выпрашивала все мороженые денюшки у Вовки Хорошкова, – показала на соседского мальчишку, катался на своей калитке, не сводя восторженных глаз с меловой свежей размашки по забору напротив «Квас – плешивый трус». – А бабушка не давала. Она никогда не давала на морожено! Вовка говорит: «А давай насбилаем копеечек, купим бандита и пускай он убьёт её из лужья… Чоб не жадобилась…» Вовка р-ры не выговаривает ещё…
Я позвал Вовку, и мы втроём отправились на угол к ближней будочке мороженщицы.
– Тебе сколько, Вова? – спросил я.
– Тли! – выпалил демонёнок и для верности вскинул три оттопыренных пальца.
Я купил им по три эскимо, и мы расстались.
17
Мир тесен: все время натыкаюсь на себя.
М. Генин
Я почувствовал себя на верху блаженства. Мне пришла счастливая мысль о том, что настали мои лучшие времена, те самые времена, когда я обещал сам найти Розу, и я покатил к ней в общежитие.
Вахтёрша сказала, что Роза только-только куда-то вышла и непременно с минуты на минуту вернётся, поскольку Роза большая домоседица.
Я присел у двери на табуретку.
Минул час, второй, утащился третий…
Роза всё не возвращалась.
Где-то под одиннадцать я уехал. Мы так и не увиделись.
На вокзале я посидел на своей лавке против камеры, погладил свою блёсткую дерянную перину… простился… и побрёл наверх, в зал ожидания, где было и народу тесней, и свету ярче, и где не надо мне больше жаться от милиции.
Теперь я могу спокойно сесть на широкую скамейку с гнутой спинкой и ждать, как и всякий в этом зале, своего поезда. Пускай подходит ментозавр, пускай спрашивает, куда мне ехать. Не пряча глаза, спокойно отвечу, что еду в Каменку, что поезд мой будет ближе к рассвету. Здесь я сяду затемно, а выйду в Каменке уже при дне…
Я сидел как порядочный пассажир, мурлыкал про себя:
– Силач – бамбула
Поднял четыре стула,
Выжал мокрое полотенце
И сделал прыжок с кровати на горшок…
Тут ко мне подлетел Бегунчик.
– Синьор! Простите мои мозги, не врубакен… Вы как затесались в этот вагон для некурящих? – обвёл он широким жестом громадный гулкий зал. – Вы не боитесь, – подолбил кривым каблуком в пол, – что ваше место в погребухе захватит какой-нибудь бамбук?
– Нет, – ответил я себялюбиво и уставился на синяк у него под глазом. – Где разжился?
– А-а… Кулачок с полки упал… – кисло отмахнулся Бегунчик. – А между прочим, именно там, – опустил он взгляд, – у камеры ждала тебя до одиннадцати кралечка… Напару с костылём. Серьёзная… Важная… Сидит, как мытая репа. С виду не похожа на вокзальную фею с горизонтальной профессией.[140]
– Кончай петь Алябьева![141] – отмахнулся я.
«Значит, мы разминулись в пути, – с досадой подумал я о Розе, как о чём-то отошедшем, отстранённом. – Значит, не судьба…»
– И с каких это пор птичке свое гнёздышко не мило? – не отставал Бегунчик. – Не хочешь ли ты сказать, что твоя вокзальная эпо́пия уже кончилась?
– Представь! – стиснул я его локоть. – Через три часа с копейками я отбываю.
Бегунчик боком вжался между мной и обрубышем, коротким пухляком – сонно отрезал ножом толстые кружочки от венка колбасы и откусывал хл еб от целой буханки.
– Я ведь тоже отбываю чудок попозжей твоего, – прихвастнул Бегунчик. – Только я не ликую в отличку от некоторых… Тебя, рыжик, спасла эта штукенция, – постучал по моему гипсу, – а то б ты накрылся калошкой и был бы ещё грустней меня. Наш бандерлог, – Бегунчик притишил голос, – уже намылился двинуть тебя в дело.
– Какое ещё дело? – перехватил я его робкий, жмущийся взгляд.
– А простое… Сами мы чистюли… В городе, в пригороде чистоту наводим… Чистим-блистим! Убираем, что плоховато висит-лежит по дворам… Голубятники[142] мы немножко… По совместительству немножко воздушники,[143] слегка банщики…[144] Так, мелочишкой баловались. Кассиров[145] у нас не было… Ничего серьёзного. Нам совсем мало нужно было набрать форса[146] до Одессы. На билеты набрали, а на харч не успели. Ямщика[147] нашего замели. Это тот… с селёдкой…[148] В конверте[149] уже… а может, и в сушилке…[150] Не продал бы всех нас… И весь таборок ударил по югам. Двое уже оборвались. Нырнули…
И чем дальше я слушал, тем всё твёрже убеждался, что Бегунчик вовсе не какой-нибудь матёрый мазурик, а так, горькое дитя беды.
Уже давно свернулась война, а долгие её шипы жалят всё больно.
Отец у Бегунчика погиб на фронте, мать угнали в Германию.
В фашистском концлагере выжила. Вернулась.
Но за то, что была в плену, её репрессировали. И уже в советском концлагере пропала без известий.
Детдом подымал мальчика. Пробежал девять классов, прижгло удрать в одесское военное училище, которое когда-то кончил отец. «Стану офицером. Как отец!».
А пока стал Бегунчиком. Так в детдоме называли беглецов.
Сумел Бегунчик тайком вскочить в ночной скорый поезд, но проехал всего одну остановку, дальше ревизоры не пустили. Завозились в милицию сдать – удрал.
Решено: заработаю на билет и доберусь до Одессы. Но кто возьмёт тебя хоть на любую работу, раз у тебя никаких документов?
Вокзальная стая паспорта с постоянной пропиской не спросила. Не спросила даже имени. Довольно клички. Рослый проворный парень глянулся ей: ноги-пики длинные, легче такому уходить от погони.
Стая, кочевая, цыганская, скакала из города в город. Всё равно было куда ехать, абы не торчать на месте, и она согласилась на Одессу. На Одессе настоял Бегунчик.
Ночами Бегунчик лазил по дворам, набирал снегу – срывал с верёвок бельё. Раз бельё на ночь выброшено или забыто, значит, считал он, в нём не очень-то и нуждаются, значит, оно лишнее, и он брал, по его мнению, у людей ровно столько, сколько им не жалко выбросить и сколько нужно ему и ни на копейку больше.
И вот деньги добыты, билеты взяты.
Уезжали по двое. Так надёжней.
Вчера уехала первая пара, сегодня двинется вторая.
Но у Бегунчика неспокойно на душе.
Хоть его билет и при нём, да ехать без напарника настрого заказано. Да придёт ли тот к поезду Бог весть. Нашёл, может, гость из тьмы лёгкую на уступку машерочку, ночует у неё и не пригреется ли к тёплому бочку трёпаной рыбки до таких степеней, что не захочется подниматься к раннему поезду, плюнет на всё да и останется? Бегунчик чувствует себя как на пристяжке.
Бегунчик распрекрасно понимает, что ему вообще не по пути с этими путаниками, а так, пока до Одессы, очень даже по пути.
– Дотянусь до моря вот – там они меня только и видали! Там я от них отчалю… Там… У меня цель… Отцово училище… Это тебе не баран начхал!
– Как же! – привскочил я от удивления. – Дожидается училище! У тебя документов никаких! Пути до первого милицейки! Ну, ты ж без…
– А наиглавный документища со мной, – Бегунчик важно погладил себя по лбу. – Знания.
– Там с тебя потребуют и свидетельство за восемь классов, и паспорт, и характеристику… Да и… Не поздно ли? А ну экзамены там уже прошли?!.. А ну крутнётся… Поцелуешь пробой и назад… А если так… Дошлёпай в школе годик и наточняк поступай?!
Бегунчик долго смотрит в пол. Кривится.
– Да сам, тетеря, об том уже тут думал… Прости мои мозги, не врубакен…И вперёд какой-то шаткий путь, и назад некуда отступать… Выскакивает какая-то фигунция… Не на что отступать… Хоть пой романс «Что нам делать, как нам быть, где нам маньки[151] раздобыть?..» Как где-то я читал, «в том и судьба, что все пути перед тобой открыты, а денег на дорогу – нет». Катани без билета – сдадут святоши ревизоры в милицию. А с милицией пригреметь к своим в детдом… Это…
Бегунчик замолчал, прислушиваясь к объявлению по радио.
– О! – осклабился. – В мою сторону тот же скорый, на котором долетел я сюда. Уполовинили стоянку. Припаздывает…
– Слушай, – тереблю за рукав Бегунчика, – у касс пусто! Добрые люди по ночам не ездят… Если возьму билет, поедешь назад? Не рассуждай. Да или нет?
– Откуда у тебя манюхи? И ты – мне?.. – напряжённо соображает Бегунчик. – Прости мои мозги, не врубакен… За какие такие заслуги перед Отечеством?
– Да да или нет?
С минуту Бегунчик думает и трудно, еле заметно кивает.
По своему паспорту я сдал его билет в кассу и взял новый. До его дома.
А самому мне пришлось ехать без билета.
Ревизоры не прозевали меня, прищучили уже у самой у Каменки.
Вывалил я всю правду, как велел секретарь, и про своё вокзальное житие, и про Бегунчика, и про бесплатные дорогие обкомовские советы.
Они слушали, похохатывали. Ну заливает! Ну заливает!
И кончили так:
– Басни ты сочинять мастак. Да мы не всякой басне веру даём. Пускай ещё милиция тебя послушает. Повеселится. А то, небось, скучает она там в твоей Каменке.
Дежурный с миром, без штрафа, отпустил меня, как только ревизоры полезли в вагон.







