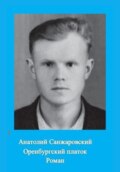Анатолий Никифорович Санжаровский
Жена напрокат
На остановке всех ближе ко мне крупный, медвежеватый малый.
– Не видели, красную сумку тут никто не поднимал?
– Поднимали. Две женщины… У них ещё две сумки. Полные.
– Где они?
– А я как-то и безо внимания… Не то шатнулись в «Молоко». Не то марахнули за аптеку… В булочную… Или в кондитерскую…
Поймай ветра в поле!
Молочный за спиной остановки. Аптека наискосок по тот бок. Булочная за аптекой совсем на другой улице.
В «Молоке» народу, как колосу в урожайный год. Потоптался-потоптался я у порожка и, сломя голову, – в булочную. В булочной всего три старушки. Сумки пустые.
В кулинарии безразмерная очередища.
Похоже, я так угорело пялился на сумки на столе для укладки купленных продуктов, что невесть откуда из недр очереди выпнулся мужик-тумба и толсто закрыл их собой.
Прожёг глазами по сумкам в руках очереди. Медленно поспешая, люди принялись заносить сумки с видимой мне стороны за себя.
Ну кто? Кто позарился на моих братцев? Ну кто изо всей этой а капеллы?
Я снова к малому. Слава Богу, автобуса его всё нет.
– Слышь, да какие эти женщины из себя?
– Одна старая. Другая вроде молодая, как бы не дочь. Одеты вот в такое, – охлопывает себя по тёмно-коричневой куртке. – Вот в таких тарахтушках. А у дочки даже с капюшоном.
Изо всех рысей я по старому маршруту.
«Молоко».
Булочная.
Кулинария.
Ничего похожего.
Нет, надо взять под контроль идущих по две…
А если они угадали мой ход и прошмыгнут мимо по одной?
Я потерянно торчу на остановке. Не знаю, что и придумать.
А вдруг они за домом? Прячутся?
Глазом не мелькнуть, как я во весь мах облетел дом.
Пусто.
Эх, человеческая доброта!.. Только и читаешь про тебя в газетах. Вернули кошелек. Вернули через бюро находок зонтик. Вернули жену… Мужа…
Но неужели нельзя вернуть братьев? Они же мои…
Я столько копил эту дурацкую макулатуру. Ночь не спал… Сон какой видел!.. С трёх караулил приемный пункт!.. Первый ворвался штурмом в магазин!.. Я!..
Что я да я?!
Может, у магазина на сучке висит сумка моя. С моими братьями. А я тут разъякался!
Я к магазину.
Цепко обшариваю деревья. Голые. Без сумки.
Из магазина выкатывается довольный мужичонка с красными братьями под мышкой.
Какое коварство!
Сонная продавщица мне пела, что все остальные экземпляры хуже моего. А тут – красные! При мне красных и не было на виду!
«Человек несправедлив! Если кто-то взял моё, то почему я не могу взять чьё-то?»
Первое несвалимое желание – выдернуть у клопика братьев с лёта.
До мужичка шагов пять. Их мне хватает произвести кое-какие расчёты. У меня велик, у него «Москвич»… Берётся за ручку… Не годится… Слабо`! Живо накроет калошкой!
У меня достает мужества пройти мимо садящегося в машину типуса с красными братьями и не вырвать их.
Я тащусь нога за ногу к углу аптеки. Тупо пялюсь на булочную. На кулинарию. Кто? Кто изо всех этих снующих мимо женщин?
Непостижимо…
Где-то в радиусе, может, ста метров лежат мои братья в чьей-то авоське рядом с пакетами молока, шницеля и не подозревают, как я убиваюсь по ним. Нет, я не вернусь домой с голыми руками! Без братьев мне нет домой пути! Ну как это придти ни с чем? А братья-то были! Вот этими руками платил за них два пятьдесят! За макулатуру отвалил сорок копеек. Минусуй сорок. Два десять чистого убытку. Да разве в два десять уберёшь все мои казни? Не-ет! Я вернусь домой только с братьями!
Я намётом в булочную. Гоню косые взгляды в сумки. Люди ужимаются, сторонятся…
Неужели без братьев возвращаться? Без родственничков?!
Может, наведаться ещё в кулинарию? А что там? Был… Напрасные хлопоты…
Но все же поталкиваю велик к кулинарии. Опало захожу. Так, на всякий случай. Захожу и столбенею.
Дева в коричневом пальто, в красной косынке с вызовом, очень даже импозантно читает у окна, на виду у всей безразмерной очереди, какую-то тяжёлую книжку. Я не вижу обложки, но сразу учуял – моя!
И в бешенстве вырвал!
Вилюшка хищневато вскинула изумлённые глаза тигрицы в синих обводках.
– Что вы рвёте из рук?
– Книгу!
– Да как вы смеете?!
– Смею! Своё рву! Своих братьев!
– Что, только у вас могут быть братья? – аврально взметнулась спесивая фуфыня. И совсем беспардонно глаза в глаза: – Мы честно сдали макулатуру! Честно купили!
– Купили? Да ещё честно? – сощурил я тоже глаза. – На дороге? Это мои, к вашему сведению, братья. Вот вмятины! Вот!! – тычу в шероховатые щербины на ребре книги. – Вот! Вот!..
Очередь очнулась. С млеющим любопытством уставилась на нас.
Дева панически бледнеет. Лицо у неё бр-р! Худое. Вытянутое. В веснушках. Веснушчатая крыса!
– Мы вам кричали, а вы поехали… – сломленно бормочет.
– Мысленно кричали?… Что же берёте то, что не клали? Для других чужое добро страхом огорожено, а для вас мёдом обмазано?
Смешанно-наглая усмешка:
– Не мы… Так взяли бы другие…
Свои грязно-жёлтые сказки я поменял в магазине на красные.
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Домой я скакал мимо кулинарии и увидел веснушчатую крыску с матушкой. Крыска не казалась мне больше крыской, а чем-то напоминала не то Джоконду, не то её сестру. Или подругу. Или подругу подруги…
Я счастливо вскинул свою красную книгу, как флаг, победно замахал ею широко над головой. Смотрите, любуйтесь! Обменяли!!!
И проскандировал трижды:
– Спа-си-бо! Спа си-бо!! Спа-си-бо!!!
Ей-же-ей, поблагодарить следовало. Ведь вернись я из магазина безо всяких приключений, у меня б никогда не было этих сказок именно в красивом, в красном переплёте.
А дома холодом осыпала меня с голубой полки мёртвая, пугающая пустота – открылась сегодня ночью, когда я, ёлка с палкой, с горячих глаз махнул в макулатуру те разновёхонькие четыре тома.
Радость во мне притухла, приувяла, и я уже полуторжественно, полускорбно выставил сказки посреди вольного простора.
Особняком сказки не устояли, свалились. Однако всё пустое место так и не заняли, так и не закрыли собой.
Пустоты оставалось ещё много.
Воскресенье 16 октября 1983
Приходи к закрытию, дорогой!
Человек – это только звучит гордо!
А. Фюрстенберг
– Алло! Ремонт?
– Так точно-с.
– У меня сломалась «Эрика».
– Поздравляем. И милости просим. Через три недели унесёте новенькую.
– А нельзя ли унести сегодня? Я в срочной работе по горло.
– Все в том самом по горло. До конца квартала три дня. Но коль такой свербёж, приходи к закрытию, дорогой!
Возвышение в ранг дорогого вселило надежды, и в половине шестого, орудуя предусмотрительно захваченной из дому велосипедной отвёрткой, я снимал подставку из-под «Эрики». У мастера на столе.
Мастер курил и как-то недружелюбно время от времени пускал мрачный, косой взгляд в недра машинки.
Обстоятельно выкурив гаванскую сигару и оказавшись не у дел, мастер тут же нашёл новое занятие по душе.
Задумался минут на десять.
Торопливо, на нервах, – время, время! – кинулся я что-то ещё отвинчивать, чем, к неудовольствию мастера, вывел его из столбнячной задумчивости.
Заразителен не только дурной пример.
Мастер тоже навалился что-то отвинчивать.
Но уже через минуту его снесло с горячей волны. Стал тряпицей с чрезмерным прилежанием протирать верх машинки, ворча про то, что рабочий день безбожно быстрым аллюром закругляется.
У нас произошло разделение.
Мастер сонной мухой ползал по верхам. Протирал пластмассовый верх. С медвежьей силой давил грязным, уже темно-фиолетовым комком очистителя на шрифт, кстати, чистый ещё из дому; давил так, что, казалось, вот-вот моя "Эрика» хрустнет под его слоновьей волосатой десницей.
«Не останови – размолотит ведь! Но как остановишь?»
Мне было до слёз жаль бедную «Эрику», и я, не смея соваться со своим уставом в чужой монастырь, всё же отважился отвести увечье от бедняжки. С молчаливым упрямством первооткрывателя я полез в глубь, отвинчивая всё, что отвинчивалось, стараясь своим энтузиазмом, без слов привлечь внимание мастера к нутру машинки, как бы намекая, давая понять, что гвоздь поломки сидит именно там, в её металлических недрах.
Старшуня не обрывал мою инициативу, аккуратно складывал в кучку винтики-железочки.
Наконец он дал царский знак отойти от стола.
Я отошёл.
Мастер зачем-то отломил кусочек тонкой проволоки, подержал её в щипцах на коротком жёлто-выморочном огне, уронил на пол, но подымать поленился. Или раздумал.
До шести оставалось три минуты.
Мастер со вздохом принялся собирать машинку. И тут случилось странное. В сторонке, где всё лежало с моей машинки, бугрилась ещё горушка деталей, которые, увы, почему-то оказались лишними.
Я разинул рот, аврально готовясь в следующую минуту умереть со смеху, когда мастер начнёт показывать, что машинка работает.
Но когда он начал показывать, я разочарованно захлопнул рот: на заложенный в машинку лист чётко ложились оттиски букв.
– Фирма веники не вяжет, – учтиво констатировал маэстро. – На первый раз с тебя, дорогой, четыре восемьдесят.
Я благодарно сунул пятерку и поспешно выскочил, боясь, что за мной погонятся со сдачей и с квитанцией. Но за мною никто не гнался. Ни с милицией, ни без.
Счастливый, дома я плюхнулся за машинку и оцепенел.
Машинка не печатала!
Давишь на пуговки, буквы на железных кривульках скачут, но до бумаги не доскакивают. Что я… Доскакивать доскакивают, да оттиска не дают.
У мастера на красоту давали, а у меня бастуют? Не иначе. На белом плотном листе – оставил мастер в машинке – напечатал же вот он вон как глазасто: «Прошу проверить воспроизведение». Каким образом?
Утром я снова звонил в мастерскую.
– Рады будем видеть тебя, дорогой, к закрытию! – заключил разговор на сладкой ноте мастер.
Теперь мой визит стоил уже пять восемьдесят.
Пришлось мне лететь к закрытию и в третий раз, чтобы подарить там шесть восемьдесят. Подарить я успел, да машинка преподносила прежние концерты. В мастерской печатала – дома отказывалась наотрез.
Почему?
Профессиональное любопытство пригнало меня в мастерскую и в четвёртый вечер.
Маэстро свойски улыбнулся мне.
Но, обнаружив, что я без «Эрики»-кормилицы, с опаской спросил:
– Или заработала?
– В том-то и дело, что нет! – выпалил я. – По этому случаю я приглашаю тебя в ресторан!
(К той поре я тоже перешёл уже на ты.)
– Это пожалуйста, – солидно, с теплом согласился мастер. – Кварталишко прикрыли монетно. Не грех и с клиентом тесно общнуться в непринуждённой обстановке.
После того как мастер профессионально оприходовал первый гранёный стакан тёщиной смеси, я вкрадчиво спросил:
– Скажи, дорогой, как это получается… У тебя моя машинка работает как часы, а у меня балбесничает?
Крепёжка размягчила моего гостюшку.
Он стал такой слабый, словно муха весной.
Где-то в углу попробовали запеть.
На угол отовсюду зашикали.
– Эй, пьяный комбинат, кончай орать!
Я ждуще смотрел на мастера.
– Всякая работа любит мастера, – кренясь набок, назидательно, с победной меланхолией отвечал он. – Потом… Дело мастера боится… Боится – значит уважает… Вот эта твоя «Эрика» меня боится и печатает, а тебя не боится и не уважает…
– Туману густо подпускаешь. Ну, чего ехать на небо тайгой? Хоть по большому секрету шепни.
Мастер слегка осерчал. Вздулся, как пузырь водяной.
– Это, – пробормотал, – уже шпионаж производственный… И под большим секретом не выдам самый маленький секрет фирмы… Что же, выдай секреты, а сам накройся медным тазиком и ступай по миру с рукой?
На манер попрошайки мастер широко выбросил на край стола медвежью свою лапищу с зажатым в ней тушистым цыплёнком не то под табаком, не то под махоркой.
– Или, – валко наклонился ко мне, – ты думаешь, что мы как врачи?… Если побежал какой по врачам, так до тех степеней ему бегать, пока не откинет лапоточки.
– Оставь параллели, – тоскливо поморщился я.
– И меридиан-ны тож! – давнул он локтем в стол, и стол, сухо всхлипнув, прогнулся. – Ни к чему. Гул-ляй, душ-ша!..
И чем больше градусов принимал этот ломастер, тем всё круче въезжал он в молчаливость, в замкнутость.
«Этот не даст наступить себе на ногу. Не расколется. Будто замок на язык повесил… Никаких секретов мне не высидеть…» – потерянно подумал я и расплатился с официантом.
Шло время.
«Эрика» по-прежнему не работала. Зато мастер увязался сниться мне каждую ночь. Всё звал приходить к закрытию.
И вот однажды, то ли наяву, то ли в мимолётном сне я услышал вещий голос. Голос спросил:
– Ты помнишь, как вызывал жэковского слесаря?
Я помнил.
Быстро он пришёл.
Я тогда даже удивился.
Час был предобеденный, и слесарь прямой наводкой угорело прострелял сразу на кухню. Увидев, что стол был гол, как ладонь, хмыкнул. На лице проступила оскорблённая бледность.
«Сломан кран в ванной, – прошелестел я. – Пойдёмте покажу».
«Удивил! Эка фантазия!.. Да что я эти кранты не видал! И на глаз не надо! Я инструмент не взял…» – и торжествующе удалился. А я пошёл чинить кран.
– А помнишь, как приходил светлячок?
Как не помнить? Это незабываемо.
Брезгливо косясь на шнурок на стене, тот электрик сказал:
"Я его и глядеть не желаю. Покупай новый. Зови меня, приду с корешками. Поставим на океюшки! Вчера раздавило клопа…[71] Пришлось отстрадать вечер в свете решений КПСС? В крутой темноте-то не нравится? А я поставлю новый… Век благодарить будешь!"
Я ахнул.
Что ж это за выключатель, что его надо ставить целой бригадой! Неэлектрик, я взлез на стул, стал смотреть, чего же не хватало в неработающем выключателе. И сразу понял! Прижал спичкой отошедшую клеммочку – выключатель до сей поры преданно служит мне полной верой и правдой.
– А помнишь, как твоего друга из Нижнедевицка шизокрылый таксист около часу мчал с Ленинградского вокзала на Ярославский? Через всю Москву, с пробегом по кольцевой?… А вокзалы стоят стена к стене на одной площади… А помнишь, как ты пришёл с новенькой «Эрикой» из магазина? – допытывался голос.
Я помнил и это.
В магазине «Эрика» работала нормально.
Дома…
Каретка ни с места. И что-то не подпускает буквы к бумаге.
Я в мастерскую. (Той мастерской сейчас уже нет, снесена.)
Мастер толкнул от себя язычок на левом боку машинки. Заработала!
Я спросил, сияя, сколько с меня.
Мастер чисто рассмеялся:
«Чудик! За что? Она ж стояла на фиксаторе. Чтоб при транспортировке каретка не дёргалась туда-сюда… Просто надо было вам дома перевести язычок на себя. Не догадались… Я перевёл. За такой пустяк как можно брать деньги? За что?»
Это было десять лет назад.
– Сейчас мастера наивных вопросов не задают, – грустно сказал голос. – Сейчас они за то дерут наличными.
Разобрался я с фиксатором. Но неужели не разберусь с прочими рычажками?
Самым близким к моему носу был рычажок лентоводителя. Я толкнул его вверх – ни с места. Не идёт вперёд, может, пойдёт вниз?
Я дёрнул книзу.
Хлоп-хлоп по клавишам – музыкалят! Буковки на бумажку летят красивые, сановитые.
Я снова рычажок кверху – «Эрика» снова не печатает.
Своим ходом добежал-таки я до разгадки, почему же баклушничала моя прелестница «Эрика»!
Я не мог не поделиться своим счастьем с мастером.
С порога ору:
– Я знаю, почему баклушничала у меня «Эрика»! Но вам не скажу!
Он засмеялся, не веря мне:
– И правильно! Свои секреты держи в секрете! Меньше говоришь – спокойней спишь!
Он обрадовался мне, как кот свежей сметане, и снова – дуй, не стой! – деловито накинулся раздевать и потрошить мою бедную «Эрику».
Я молча отстранил его.
Нажал книзу переключатель ленты. Застучал по клавишам.
«Эрика» печатала отлично!
Мастер – да из него мастер, как из пивной бутылки кадило! – сражённо отступил на шаг и обморочно пришатнулся к стене. Ничего другого кроме показного обморока ему и не оставалось. У него не было выбора. Он понял, что его секрет и в самом деле раскрыт.
А «Эрика» и не думала ломаться.
Просто я по нечаянности, работая на ней, задел кверху злополучный переключатель. Лента сместилась. «Эрика» перестала печатать.
Мастер уловил, что я в технике круглый долбун во всех трёх измерениях, а потому, чтобы покруглее с меня сорвать, ломал передо мною ремонтную комедь. Желая показать, как машинка работает, он опускал переключатель, а потом, улучив момент, поднимал. Мастер-игрун…
И сколько бы кланялся я ему, одному верховному известно.
А сколько дуриком выщелкнул он у меня капиталу? Ну что же… Зато я получил хороший урок. А хороший урок тоже больших денег стоит. К тому же я сделал глубокое открытие: ничто не даётся нам бесплатно, даже наша собственная глупость.
Однако…
Обо всём этом я напишу. Надо же как-то возвращать «ремонтные» расходы.
Я посмотрел на мастера.
Наш незабвенный Тигрий Львович Зайчиков недвижно подпирал стену, будто примёрз. Он что, и в самом деле ладится откинуть чалки?
Возьмём себя в руки и не заплачем.
Всё равно рабочий день уже кончился.
Вторник, 1 ноября 1983 года.
Начато в 9.45,2, закончено в 13.54,6.
Себе дороже
Нет такого тупика, из которого нельзя попасть в другой.
Б. Рацер
В солнце домерзает последний декабрьский денёк.
На подоконнике убранная кроха ёлочка.
Маленький Серёжик скучно трогает иголочки. Не колются… Наклоняется лицом к макушке – тихий больничный запах заставляет его поморщиться.
Ёлочка эта магазинная. Пластмассовая. Какая-то понарошковая…
Не-ет, не-ет от неё того весёлого, волшебного духа, какой шёл от взаправдашней – доставала до потолка! – ёлки в прошлом Новом году.
Серёжик вздыхает и мимо мёртвой карманной ёлочки спускает обиженный, тоскливый взгляд на радостную улицу, сияющую под солнцем хрустальными снегами.
Во двор вкатывается красивая оранжевая «Волга» с шашечками на крыше.
Серёжик проводил её протяжным мечтательным взглядом и, подложив обе ладошки под правую щёку, аврально застонал.
– Что с тобой? – всполошилась мать. – Зуб?
Сережик готовно потряс головой.
– Давай ниточкой вырву! – в лёгкой панике предложил свои царские услуги отец.
Серёжик оскорблён. Что он, заяц какой, ниткой чтоб рвали зуб?
Серёжик знает себе цену и пробует поднять её в глазах отца. Наваливается ныть громче, требовательней, гибельней.
– Ишь, какой провористый! – сердится мать на отца. – Или ты врач? Надо ребёнка к врачу!
В знак одобрения Серёжик сбавил на полтона.
С достоинством бледнея, отец показал матери на Серёжика:
– Собирай. Поведу.
Серёжик захныкал сильней.
– Может, тебе ещё такси заказать? – скромно вспыхнул отец.
– А почему бы и нет?! – хватается за эту соломинку мать.
Отец с постным лицом подсаживается к телефону.
К врачу поехали всей троицей.
Через две минуты машина остановилась у детской поликлиники.
Серёжик уныло покосился на входную дверь, протестующе замотал головой.
– Что это за фигли-мигли? – опало поинтересовался отец.
– А то, что ребёнок, наверно, боится к врачу, – выразила предположение мать.
– Может, его ещё в платную скатать? – с нежным сарказмом бросил отец.
– А почему бы и нет! – и в эту соломинку вцепилась мать. – Народу наверняка там сейчас негусто. Да и врачи пообходительней… Как-никак, платная…
– Но туда неблизкий свет. Пока допилим, мальчик весь искричится от боли!
Серёжик обломно стих, тем самым с ходу отмёл демагогический выпад отца.
И Нарциссовы помолотили в центр города.
Серёжик один восседал на переднем сиденье и во все глаза пялился на летящие навстречу автобусы, столбы, дома, площади в новогоднем блёстком убранстве.
У мальчишки захватывало дух.
Про зуб про свой он и думать забыл.
Отец, поддерживая за локоток мать, проворчал с заднего сиденья:
– Какой-то он весь довольный собой, как Чебурашка…
Серёжик вздохнул и то ли жалобно, то ли виновато потихошеньку заскулил.
Когда вышли от врача и пошли к автобусу, Серёжик рёвушкой заревел. Слёзы в три ручья ударили из глаз.
Родители оцепенели.
– Вот и дожили до запоздалых слёз… Ты что плачешь? Ведь зуб-то вырвали!
– Да-а… – покаянно тянул Серёжик, рассыпая слезинки по асфальту. – Да я… Да я только… на такси хотел покататься… А вы… а вы… ещё и зуб вырвали…
Мать обомлело всплеснула руками.
Отец не без восторга потрепал его по щеке.
– А ты у нас орёлик. Дал вырвать здоровый зуб и стерпел. Герой!
– Герой-то герой… Да больнушко-то как!.. – пожаловался Серёжик.
17 ноября 1983. Четверг.
На отдыхе
Как строго ни судит себя человек, он всегда находит хороший повод для амнистии.
В. Зуев
Ножкин и Рожкин вышли из гостей.
Было уныло и пусто.
Кругом ни души, как на дне морском. Некому и слово сказать сердечное.
– О! – разом воскликнули Ножкин и Рожкин, устремляя радостно горящие взоры вперёд по улице.
– То никого, а то нежданчиком сразу двое! – уже один сказал Ножкин. – И как-кие похожие!
– Как близнецы! – восхитился Рожкин. – Полный неврубон!
– Эй! Близнюки! Вы чего такие одинаковые? – впал в любопытство Ножкин. – От одной мамки? Кто у вас старшее?
– Миряне, – сказал встречный, – вы что-то путаете. Это вас двое. А я, – он ищуще огляделся, – а я один.
– Да он нас дурачит! – поражённо выпалил Рожкин. – Белым днём обманывает нас. Насмехается. Что мы, своими глазами не видим?
– Вид-дим, – меланхолически подтвердил Ножкин. – Их двое.
– А он, понимаешь, говорит, один. Да мы из принципа не стали бы вдвоём разговаривать с одним! А два на два почему не поговорить? Даже под интерес и честно, по-джентльменски. Пускай не обманывает!.. Да чего мы с ним попусту фиксы сушим?[72] Дад-дим? – вдохновенно вопросил Рожкин.
– Дад-дим! – торжественно разрешил Ножкин, безуспешно силясь собрать непослушные пальцы в кулак.
Брезгливо чиркнув ладонью о ладонь, встречный галантно приподнял шляпу. Извинительно сказал сидящим на траве в растрёпанных чувствах Ножкину и Рожкину:
– Видит Бог, и в мыслях не было… Вынужденный экспромт.
И так же галантно удалился.
Охая, Рожкин робко, полуобрадованно сообщил Ножкину:
– Как хорошо, что он был всё-таки один!
– Но ещё лучше, что нас было двое, – провожая виноватым взглядом надёжно уходящего прохожего, скромно похвалился Ножкин. – Тебя бьёт – я отдыхаю. Меня бьёт – ты отдыхаешь…
1983