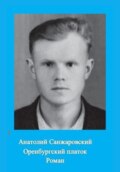Анатолий Никифорович Санжаровский
Жена напрокат
Спасти Михалыча!
Ложка мёда придаёт пикантный вкус бочке с дёгтем.
Г. Малкин
– Ффу-у! Ну и давка! Еле втёрся в дверь…
Что деется с народом! Что деется! Все какие-то бешеные до работы. Давятся, будто их станки разбегутся, приди несколькими минутами попозжей.
Но разве они могут?
Боятся на минуту опоздать. Из-за дурацкой минуты чуть было невинного человека не сплющили в худой блин!
Да чтоб я ещё хоть раз к восьми полез на работу?
Не-е!
Покорнейше благодарю!
Они боятся, они пускай и плющатся.
А я не боюсь.
Я смелый. Буду ходить, как ходил. Смелым.
Идёшь спокойно, основательно.
По крайней мере, ты кум королю, отец министру.
Все трусливые в мыле пробежали к восьми.
Теперь в гордом одиночестве шествуют друг за другом смелые.
Вышагиваешь и чувствуешь себя рабочим человеком.
А то… Чёрт меня дёрнул. «Пойду как все». Врезался в эту свалку – еле в проходную втёрся…
Я замечаю, что толпой снесло меня вбок.
Я приложился плечом к крайнему в толпе, собрался уже встегнуться в саму толчею и благородно двинуться по центру к турникету, как двое, слышу, тихонечко, даже уважительно, но стабильно оттирают меня в сторону от центра моего устремления. Проще, сбивают с твёрдого и верного пути.
– Э-э! Мужики! – гаркнул я на них. – Не шалить!
– Извините, – говорят мне опять же тихо и даже культурно. – Извините, мы из заводского профсоюзного контроля.
– А что мне контроль!? – тычу на часы по тот бок над крутилкой. – У меня, господа, извините, в загашнике, к вашему сведению, ещё целых, неначатых, пять минут!
– Вот и хорошо, – отвечают мне тихо и даже вежливо. – Сделайте небольшую услугу. Надо проверить вахтёра. Побудьте, пожалуйста, в роли меченого атома. Пройдите через проходную вот с этим пропуском.
Развернул я тот пропуск… Господи!
И зажмурился.
– И вы серьёзно хотите, чтоб я с этим пропуском пошёл?
– Хотим.
– Не люблю я мочить залепухи…[81] Да и… А ну Михалыч засекёт?
– Слава и премия бдительному Михалычу!
– А не засекёт?
– Умоется кварталкой.
"Боже! – думаю я разбито. – Да неужели я, Васька Пестролобов, с дурцой? Я за всю жизнь, поди, в первый раз припрыгал на работу ко времени и на`! Такую подлянку родному Михалычу? Опоздай я и на пять, и на десять минут, Михалыч свойски улыбнётся, пальчиком так славно, добродушно погрозит, и весь накачион. Сверкнёт когда святое желаньице заложить под бороду… В рабочее время выскочить по-тайной за градусами на угол – ввек отказу не бывало от Михалыча. С одной базы![82] Пропустит, никому не стукнет и за всё за то хорошее – я ему залуди такую подлянищу?"
– Товарищ! Вернитесь в себя! – в один голос говорят мне два контролёра. – Идите. Время не ждёт. Что вы размечтались? Сами ещё опоздаете.
– Нет, – говорю, – панове. Что я, долбак? Помесь тигра с мотоциклом? Не пойду я с вашим пропуском. А насильно не имеете права заставить.
– И не заставляем, – тихо и опять же даже принципиально говорят. – Пройдёт другой.
И забирают пропуск.
Я отдал и тут меня, как током, прошило:
«А ну сунь они этот манифест какому матёрому активистику – как швед под Полтавой сгиб мой Михалыч! Надо спасать Михалыча! Если не я, то кто же?!»
Дёрг я ту лапшу назад и молча выверенным курсом вперёд.
Михалыч выловил меня глазом из толпы, сделал персонально мне из стекляшки ручкой, улыбнулся. Золото, а не человек!
Я остановился напротив Михалыча.
Остановился вкопанно, хорошим дубком. В приветствии торжественно вскинул руку, так что едва не упёрся пропуском в окошко.
– Привет доблестному Михалычу!
Михалыч на мою бумаженцию и не глядит.
Вроде даже обиделся, что так близко подставил.
Однако ласково подтолкнул мой кулак в сторону движения. Мол, иди, иди. Некогда бодягу разводить! Валом народ валит! Самая сила пика. Сам видишь. Не тяни аллилуйю за хвост!
А я не вижу.
А я тяну.
А я не трогаюсь с места.
Даже напротив.
Медленно, ясно повторяю со значением:
– При-и-иве-е-е-етик, Михалыч-cветик!..
А сам знай мизинцем тычу в карточку на пропуске. Смотри! Смотри же ты, старенькая ты калошка, что я тебе подсовываю!
Михалыч выглянул из-за моего кулака с пропуском, кисло пожмурился и в горячем нетерпенье снова и уже сильней толкнул мой кулак в сторону движения. Что за заигры?… Да пролетай же, бажбан! Вот банный лист!
А я ни с места.
Тычу мизинцем в карточку. Словно меня заело.
За спиной зароптал трудовой класс.
– Граждане и в том числе очень глубоко любимые гражданушки! – назидательно говорю некультурной толпе. – Не напирайте, пожалуйста. Не в очереди за правильным пивом! Человек, – киваю на Михалыча в стекляшке, – на работе!!! Ему надо все, повторяю, исключительно все пропуска наточняк проверять! Нет ли какого подвоха. А то знаете, сам читал… На одном заводе местные шутники подсунули на подпись своему мастеру наряд. Мастер верил всем, добрая душа был этот мастер, и он не глядя махнул. А потом этот наряд вывесили на общий смех. Был тот выписан наряд, – свободной, без пропуска, рукой я тряхнул в воздухе, – на обточку диска Луны! Во-он оно какие коврижки!.. Ты всё понял, Михалыч?… Дор-рогуша?!..
– Да кашляй, кашляй ты, нерводрал, дале! – вскочил в своей колбе Михалыч и зверовато уставился на меня. – Ну ты чего расчехлил лапшемёт? Ты что мне в такой мент басни поёшь? Ещё в самые глаза тычешь свою пробегалку! Да я тебя как облупленного и без бумажухи знаю! Да я сейчас вызову свой наряд! – Он снял трубку. – И тебе живо соберут все твои шарики! А то они у тебя, знаешь-понимаешь, не все дома. Разбежались! Раскатились, какой куда хотел!
В трубке отозвались.
– Срочно на проходную! – приказал в трубку Михалыч.
И тут толпа, потеряв всякое терпение, так двинула меня, что я мешком с опилками вальнулся за крутилку и растянулся по полу. Как на морском пляжу.
Боли от ушиба я не почувствовал.
Может, потому, что эту боль покрывала, забивала более сильная боль за Михалыча? Ну почему он не стал смотреть на карточку в моём пропуске?
Я покосился на злосчастный пропуск, зажатый в кулаке.
С карточки на меня весело щурилась лукавая лошадиная морда.
1994

Публикация рассказа «Спасти Михалыча!» в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты». («ЛГ», 30 июня – 6 июля 2004 года.)
В виду моря
И жизнь хороша, и мы хороши!
А. Рас
Наконец-то провожающие тугой гурьбой вышли из купе. Каждый оставил кто сумку, кто авоську, кто просто свёрток. Набежал полный угол снеди.
– Ну, доча! – вздохнула Клавдия, размято обводя угол. – Полная обалдемонка! Никакого нам с тобой отдыха не видать. Какой же в шутах отдых – перемолотить эстолько за дорогу!
Рита, закормленная с осени круглая неповоротливая толстушка лет двенадцати, похожая на бочонок с розовыми сытыми щёчками, кисло пожмурилась.
– Душно. Нет ни одной ветринки.
С этими словами Клавдия повисла на оконной ручке.
Охнув, окно опустилось под её весом. Было в ней центнера полтора, и набрала она эти полтора центнера в неполные сорок лет. Платью было тесно на ней. Как несмазанная телега скрипело оно, когда Клавдия двигалась.
– Не кривись, а начинай, – полуприказала Клавдия.
Рита взобралась с ногами на постель и принялась тоскливо, совсем без разгона жевать. Клавдия тоже угнездилась по другую сторону столика на постель с ногами и тоже стала лениво, как бы по обязанности есть.
У каждой была строгая специализация.
Рита прибирала одни бананы и апельсины. Клавдия налегала на пузатенькие курьи лодыжки, бросаясь птичьими останками в окно и запивая всё это лимонадом.
А между тем окно тихонько подпрыгивало, будто прицеливалось, а можно ли вернуться на старое место, и, кажется, окончательно осмелев, подпрыгнуло до самого верха и плотно закрылось.
В купе разлилась тугая духота.
Но Клавдия горячо разбежалась в еде, умывалась по`том и на миг уже не могла прервать трапезу, чтобы встать да открыть.
– Вона смотри! – обращается к Рите и тычет лодыжкой за окно на ребят в поле, собирали помидоры. – И ты по такому пеклу, может, кланялась бы этим красномордым помидорянам… Да что ж я – психушка? Пускай трактор терпужит, он дурак железный… Я в поликлинику, к своему человеку… Заслонила тебя справкой от этой горькой, каторжанской практики… Да-а, мать у тебя, дочаня, гигантелла! В каждом волоске по талантищу сидит!
Рита зевнула, посмотрела на короткие жирные пальцы матери в дорогих перстнях. Будто для сравнения с неясным интересом покосилась на свою недельку на указательном пальце, на золотое колечко на мизинце.
– Ты у меня, Ритуль, во всякое лето практикуешься по старому расписанию. Выдерживаешь порядок… Месяц у бабы Мани на молоке, месяц у бабы Нины на малинке да месячишко вот у тёть Оли на море. Молоком да малинкой отбаловалась. Осталось снять пробу с моря… Скоро свежей в купе станет. От Харькова начинается твоя моря…
Уныло поглядывая за окно, Рита с торчащей изо рта белой палкой банана провожает южную харьковскую окраину.
– А в Харькове, – сонно тянет, – нету ни одного моря.
– Как это нету? – оскорблённо всплывает на дыбки Клавдия. – На той неделе проезжала – было! И нету? Или его перенесли?
Рите лень отвечать. Делает отмашку:
– Слезь с уха.[83]
Разговор тухнет.

Публикация рассказа «В виду моря» в еженедельнике «Семья». (№ 30 за 2007 год.)
В купе тихо. Слышен лишь хруст куриных косточек да вздохи старушки в обдергайке, что неприкаянно толклась в проходе.
– А в Голохватовке у тёть Оли шикаристо, – обрывает молчание Клавдия. – Вечера чёрные. На небе полным-полно звездей.
Рита морщится.
– Ой и культура у тебя, Евтихиевна… – Рита звала мать по отчеству. Как зовут на работе. – Неправильно говоришь. Надо: не звездей, а звездов!
Клавдия почему-то засомневалась.
– Тоже мне выискалась грамотейша! Это твоя счастья, что сейчас вроде не держат в одном классе долгей одного года. А то б ты – обалдеть! – за пять сезонов и из первоклах не выскочила!
– Бабуль, – поворачивается Рита к беспризорной старушке в проходе, – скажи, как правильно: звездей или звездов?
Лукавство качнулось в умных глазах.
Старушка забормотала:
– Звездей… звездов… Я-то и словов таких не слыхивала…
Клавдия широко ухмыльнулась, нависла тяжёлым облаком над столиком, заваленным кормёжкой.
– Тоже удумала у кого грамоту искать, – зашептала Рите, вполглаза косясь на старушку. – Да это ж, небось, ушатая[84] лимитчица с рожденья! Тёмная вся! Просвети хоть по части картишек эту развалюшку… Выходи на связь!
– Бабуль, – тоскливо тянет Рита и срезает крашеным коготком колоду затёртых карт на краешке стола, – а хошь, за две остановки научу тебя в…
– Во что? Во что? – вытягивает лицо старушка.
Рита унывно повторяет, но я не рискну назвать те карточные игры.
– Деточка, к чему тебе эти карты? К чему тебе эти серёжки?
Клавдия сторожко наставила ухо.
Уши греет, подслушивает.
Старушка повернулась к ней.
– Да знаете ли вы, что носить серьги вредно? Это не я, это немецкие учёные говорят. В мочке уха находятся рефлектогенные зоны, связанные с внутренними органами. Долгое ношение серёг приводит к заболеванию этих органов. Носить можно по три часа в сутки и обязательно снимать на ночь. Детям вообще носить нельзя!
Клавдия ералашно вломилась в амбицию:
– Да лезла бы ты со своими учёными в сосновый тулуп![85] Родному дитю возжалеть?! Да я свою разряжаю покрепша училки-мучилки! А ты мне указывать? Дочкя с пяти годков с рыжими ушами[86] бегая и – где она больная? Да здоровейше её нету во всей параллели!
Клавдии показалось, что свёрток на столике заворочался. Она опустила взгляд. Ей примерещилось, что видный из бумажного свёртка зажаренный молодой поросёночек в панике похлопал вытаращенными глазёнками и машинально потянул в себя торчавший изо рта пук зелёной петрушки.
«Как бы ещё не заверещал… Кругом чужие люди… Сраму… – опало думает Клавдия. – Может, махнуть его в окно?… Вот такие мы! У нас всего завал! На наш дорожный век нам и курятинки хватит!»
Из окна ударил дух близкого химзавода.
Клавдия быстро закрыла окно.
– Вот дярёвня! Вот вонища!.. Этих деревенских хоть духами францюзскими затопи, всё одно деревенский ароматий не перешибёшь!
«Эх, Мотря! Как и поворачивается язык! Деревенька тебя кормит-поит. Была б ты без деревни такая бугристая?» – подумала старушка и холодно уставилась на Клавдию.
Отрывисто, режуще спросила:
– Сама-то давно из деревни? Давно ли из грязи да в князи выстегнулась?
Клавдия почему-то вдруг растерялась и ничего не нашлась ответить.
А старушка тем временем, властно смахнув край постели Клавдии на колени, наседала:
– Выметайсь с моего места! Я садилась с тобой… Уже час жмусь у твоих ног, всё жду, когда ты кончишь жевать в три горла. Да ты, похоже, будешь бесконечно мять до морковкина заговенья!
Говорит так старушка и зло выставляет билет.
Да, место это старушкино.
"А что ж тогда мой аспид? – смято думает Клавдия. Аспидом она звала мужа. Под синим массивным профилем на руке, так прозрачно напоминающем Клавдию, у него была вытатуирована жалоба: «Мамочка, это вот она довела меня до могилы!» – Ох, аспид! Бегал сам за билетами. Клялся-божился – места наши нижние. А выходит, одно над одним".
Делать нечего.
Клавдия трудно перетаскивает свою постель на верхнюю полку. Оперлась на неё, разбито пялится в окно.
– Ритуль, – устало говорит она, – что ж мы с тобой за хрюшки, что не можем залезти на вторую полку?
Рита равнодушно и немигающе смотрит на мать и молчит.
Где-то в степи поезд зацепился за столб.
В окне – петля дороги, у переезда грузовик с краном.
Шофёр провёл нетвёрдой рукой по губам, закрыл глаза и затянул отчаянным голосом, посылая Клавдии знаки счастливой души:
– Дава-ай, ми-и-илка,
Эх, гро-об закаже-е-ем.
Ка-ак помрё-ё-ём,
Та-ак вместе ля-яжем…
Деловой пламенный призыв шофёра выпихивает Клавдию из тупика.
– Милушок! – в грусти бросается она к открытому окну. – Помоги! Подсади своей бандурой на вторую полку!
Шофёр широко разбрасывает руки.
Из кабины его оглобельки видать далеко в обе стороны.
– Я что, дорогая моя недвижимость? Я завсегда согласный войти в интерес с женским классом. Но у моего краника грузоподъёмность недостаточна. Надорвётся-с!
Клавдия сердито захлопывает окно, на вздохе роняет Рите:
– Не жили хорошо, нечего и начинать…
Духота спала-блаженствовала на пустой постели на верхней полке.
А под нею, прилепившись друг к дружке, томились Клавдия с Ритой. Так и просидели всю ночь двумя крутыми буграми.
Но вот и дорожные терзания позади.
Весёлая, радостная Клавдия хлопочет у летней плиты в саду.
В виду моря!
На стол под яблоней ставит перед дочкой чашку манной каши. Подаёт с ложки.
Рита крутит головой.
Поталкивает, шлёпает ложкой мать в локоть:
– Здесь не хочу! Полезли на крышу, Евтихиевна!
Клавдия зацветает богатой улыбкой.
На крышу, так на крышу!
Как-то кроху Риту уговаривали всем семейством съесть вторую ложку каши за маму. Рита впервые топнула ножкой и заявила, что уступит только на крыше.
С той поры, приезжая в гости в деревню, мать кормит Риту завтраками, обедами, полдниками, ужинами только на крыше. Если однажды Рита пожелает, чтоб ей манную кашу подали на маковку Останкинской телебашни, мать не посмеет отказать, заберётся и туда. У материнской любви устава нет.
Кряхтит, ойкает Клавдия – следом за Ритой взмащивается по ненадёжной лесенке на пологую крышу сарая.
Тихонько усаживаются.
С минуту, обмирая от восторга, любуются они панорамой моря.
Потом Клавдия тихо дует на ложку с кашей, несёт Рите.
Рита благосклонно принимает. Каша нравится.
Рита лезет к матери подкрепить этот радостный факт поцелуем, и они – проваливаются.
Слабодушных прошу не волноваться.
Я угадал ваше желание и подстелил своим героиням не то что охапку – воз свежего душистого сена! Чтобы долго им не лететь, туго забил сарай сеном до самого верха.
Так что мать с дочерью свалились в мягкий аромат лета и счастливо расхохотались.

– Хрю-хрю? – извинительно спросила снизу благодушная хавронья.
Её вопрос я осмелюсь лишь подстрочно перевести как «Вы кто?»
– Хрю-хрю! – прощебетала в ответ Рита. – Свои! Да свои!!!
В пряной прохладе сена Рита скоро уснула и уронила руку на грудь матери.
Матери жаль будить дочку.
Не двигаясь, Клавдия долго смотрела в пролом крыши на чистое небо. Слушала море, слушала охавшую внизу от жары хавронью.
Мало-помалу неясное чувство вины засверлило, затревожило Клавдию. В чём она виновата? Перед кем?
Перед дочерью?
Перед выброшенными в вагонное окно свёртками с добротным харчем?
Перед бабунюшкой в обдергайке?
«Интересно, а как она вызнала, что я деревенского разлива? Или птаху и без паспорта видать по полёту?… Да, и я, и Рита родом отсюда, голохватовские. Всего десятое лето в городе… Куда ни залетишь, а душа домой кличет всегда…»
Сон закрыл ей глаза.
Ей нигде так сладко не спалось, как на сеновале.
Д о м а.
1994

Гордый жмурик
Дороже здоровья только лечение.
А.Тарасов
Операционная.
Стол.
Молодой хирург развалил страдалика, как кабана, искренне подивился нежданно открывшемуся в лёгкой дымке внутреннему миру больного и забыл, что делать дальше. Он срочно вспомнил, что все свои знания забыл в непрочитанном учебнике.
Делать нечего. Надо бежать на свидание с учебником.
Он торопливо содрал с головы нелепо нависавший в изломе бывший белым то ли поварской, то ли шутовской колпак, на бегу швырнул в угол также бывший белым халат и побежал.
Прибегает – районная библиотека ушла в декрет вместе с библиотекаршей.
Соседняя капремонтируется.
Центральная санитарит.
А уже вечер.
А дом рядом.
А по видаку скоро очередная серия «Богатые тоже плачут».
Ну как пропустишь?
И он побежал смотреть богатые слёзы.
Когда хирург пришёл снова в операционную, больного на столе не было.
Откуда-то из недр тишины придавленно горевала музыка.
Он выглянул в окно.
По улице брела похоронная дивизия.
И впереди, как знамя, несли на руках бывшего больного.
«Чёрт побери этих больных! Какие нетерпеливые пошли! Потерпел бы! Полежал бы на столе какой денёк… Не пашут же здесь на тебе! Для этих же барбосов стараешься! По последнему медписку хочешь отоперировать. А прибегаешь – он уже на кладбище отъезжает. Ну куда спешат? Ну куда спешат? Разлёгся в гробу как анафема! Маши не маши, даже пальчиком не шевельнёт в ответ. Горде-ец. Закушался дядя!»
1994
Утренние хлопоты
Что ж так спится на заре
Маленькому Грише?
Это кто там при Луне
Ночь гулял по крышам?
Грише крыши надоели.
Орлом в небо взвился
И по Млечному пути
В санках прокатился.
В прятки он играл с Луной.
Со звёздами скакал.
Загулялся.
И домой под утро прибежал.
Крепко Грише спится.
Вальс звёзд снится.
Видит в танце крышу.
Кто ж разбудит Гришу?
11 февраля 1997. Воскресенье.
Осень в Ясеневе
В Ясеневе осень.
Что милей бывает?
В Ясеневе осень.
Сердце обмирает.
Из окошка дома —
Золотые дали.
Ничего отрадней
Очи не видали.
8 октября 1997. Среда.

Соавторы, или Сопение как двигатель творческой мысли
Дождь гулял под зонтиком…
Как я ни тужился, телега дальше не ехала.
– Сочиняй стишок с этой первой строчкой, – положил я свою строчку перед Гришей.
Сын солидно, авторитетно засопел, будто в одиночестве переносил на новое место Эверест.
Весь и сразу.
Тяжёлое сопение живо пробило затор где-то в недрах странной поэтической машины, и совсем скоро стих легко, с приплясом выбежал наружу.
Дождь гулял под зонтиком
По радуге весь день.
И вдруг свалился с радуги.
Споткнулся о плетень!
Мой маленький Григореску автоматом оттарабанил три последние строчки.
Я только в такт подмыкивал.
Вроде получалось дуэтом. Оба-два сочиняли!
Вот мы и докопались до точности, кто что сложил.
25 августа 1998 года. Вторник.
(Газета «Труд», № 113 за 2000)
Сапоги
Купил я сапоги бегучие,
Весёлые, знатные, летучие.
Летать орлику над русскими
снегами
И над спесивыми смеяться
холодами.
21 ноября 1998. Суббота.
Пирожок
Если ваша жена – клад, вам причитается двадцать пять процентов.
А. Бортников
Слыхали? У нас муж любимую жену убил.
Пирожком.
Всё Ясенево так и присело.
Что за пирожок? Где добытый? Кем выработанный? Чем начинённый?
Без суда разве доедешь до точности?
И вот уже на суде, из-за решётки обезьянника, муж раскладывает правду-матку по полочкам.
– Не убивал я… Мы ж двадцать два года отжили!
Зал не поверил.
Уточнил, наводящий подпихнул вопросец:
– Может, тебе просто некогда было? По нечайке, может?…
Махнул муж на глупость рукой и продолжал так:
– Хозяйка была без вопросов. Что с лица, что характером… На кухне… Всё могла! И чай вскипятит! И так ядрёно! Он у неё кипел, не знал, куда деваться. Свистел как резаный! Значит, вскипятит… И даже нальёт… Всё могла! Вот только с пирожками не ладила.
А я пирожки любил… Пережиток барский…

Рис. С.Тюнина
Вижу, хочется ей мне угодить. Горячо. Наваляет целую горушку. И тогда обое мы краснеем. Она за свой труд. Я за своё бессилие съесть те пирожки. Без долота ж, без зубила, без молотка, без пилки не подходи к тем пирожкам!
За месяц с грехом и с зубилом пополам одолеешь-таки ту горку и больше в страхе не заикаешься про пирожки года с два.
Но любовь не мрёт.
Года через три снова одарит горкой. Один железней другого.
Раз пирожок упал ей на ногу.
– Как каменюкой кто отблагодарил! – поделилась впечатлением от того упада.
Полмесяца честно отгуляла на больничном.
А тут Восьмой заходит март.
На пирожки потянуло опадающего символа.
Думаю, надо всерьёз брать пирожковый редут.
Накупил ей килограмма с два кулинарных книг. Одна «Традиционная русская кухня» толще кулака. А «Большой рецептурный кулинарный словарь» и того толще. На то и «Большой»!
Но мне мало.
Так я ещё разбежался и на целую «Энциклопедию выпечки».
Будем по науке печь!
Глядишь, умягчим каменные пирожки.
Надо, сушу я голову, к книжкам-подаркам что-нибудь и от себя пристегнуть.
Тут у меня сынок возрос. Побежал шестилеточка в первые классы.
– Ну-к, сынок, потренируй ручку. Давай нарисуем мамке поздравленьице по случаю случайно случившегося случая!
«Дорогая мамочка! – живо-два сажает сын буквы-лягушки на открытку. – Поздравляю тебя с праздником 8 Марта и желаю много-много всего-всего, чего ты хочешь. А я хочу мягких пирожков!» – И кинул занятную петлю подписи.
«И я», – черкнул я ниже.
И тоже расписался.
Принялся сынок за адрес.
Против слова Куда накрутил:
«Планета Земля!»
И после Кому вывел:
«Мамочке любимой!!!»
Восьмого утром сын с открыткой, я с книгами двинулись на кухню поздравлять нашу единственную на всю квартиру красавицу.
Сын чинно прочитал открытку, заработал вежливое спасибо.
Я подаю книги свои – обиделась прям на эти книги с намёком, поскучнела в лице. И ни звучочка.
– Я тоже хочу чего-нибудь мякенького… – промямлил я.
– Значит… будет…
И запустила тесто.
Я опрометчиво поверил, что пирожки и впрямь выбегут из духовки пушистые.
По случаю праздника.
Ничего ж непозволительного я не хотел. Я просто хотел откусить от пирожка. И очень хотел.
А потому добросовестно кусанул!
Пирожку хоть бы хны. Ни вмятинки, ни царапинки.
Зато зуб у меня аврально хрустнул и трупно рухнул на пол.
В ужасе глядя на свою невосполнимую утрату, я запустил этот пирожок в его творца. С горячим распоряжением:
– Сама испекла – сама и кушай!
Но кушать ей уже не довелось. Пирожок был тяжелюха, будто в него запекли ком золота.
Это не я…
Это досада…
Это поломанный зуб кинулся пирожком!
На сломанный зуб суд и повесь всю эту худую петрушку.
1999