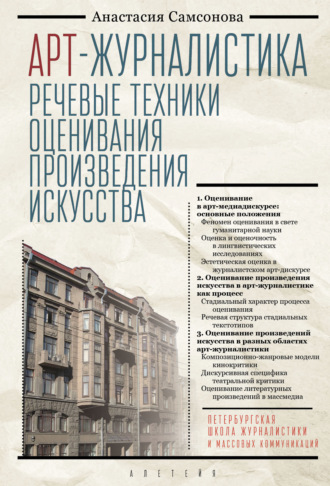
Анастасия Александровна Самсонова
Арт-журналистика. Речевые техники оценивания произведения искусства
Для завершения систематизации знаний об оценке рассмотрим еще один аспект. Некоторые исследователи подходят к оценке как вербализованному результату квалифицирующей (соотносящей с представлениями о хорошем и плохом) деятельности сознания[60], другие – как к деятельности сенсорной (чувственной) сферы человеческой психики[61]. Это приводит к необходимости разграничений понятий оценки и эмоциональности, а также эмотивности и экспрессивности.
В науке существует противопоставление эмоциональности как психологического феномена и эмотивности как феномена языкового[62].
Е. П. Ильин выделяет три подхода к определению эмоциональности: синонимизация эмоциональности с гиперэмоциональностью, эмоциональность как одна из составляющих темперамента и эмоциональность как свойства человека, характеризующие содержание, качество и динамику его эмоций и чувств[63]. Третий подход (Голубева, Ольшанникова) представляется в наибольшей степени соответствующим лингвистической теории, поскольку в рамках данного подхода предполагается связь эмоциональности с модальностью.
Итак, эмоциональность – психологическая категория, получающая в языке воплощение через категорию эмотивности (которая реализуется с помощью различных речевых средств). Экспрессивность же, по замечанию В. Н. Телия, является свойством высказывания в целом: «экспрессивность выражается интонационной структурой и, соответственно, восклицательной формой предложения»[64]. Эмотивность не предполагает обязательной экспрессивности, используется с целью оценить, задача экспрессивности – впечатлить: это «целенаправленное воздействие на слушателя с точки зрения впечатляющей силы высказывания, выразительности, его эстетической характеризации» [65].
Наконец, именно эмотивность тесно связана с оценочностью: Е. М. Вольф подчеркивает, что «Эмотивный компонент оценки подразумевает хорошее/плохое отношение субъекта к объекту оценки и противопоставляется объективному, который опирается на свойства объектов»[66]. При этом эмотивность соотносится, скорее, с чувственным отношением субъекта к объекту, то есть является свойством эмоциональной оценки, тогда как оценочность присуща всем видам оценки, включая не только эмоциональную, но и рациональную.
Итак, мы обозначили объем понятия оценка, разграничив его смежными, определили наши действия по отделению дескриптивных рассуждений от оценок. При анализе категорий эмотивности, экспрессивности и эмоциональности мы подошли к категории оценочности. Разграничение оценки и оценочности представляется принципиальным для этой работы.
Оценочность – текстовая категория, рассматриваемая учеными как свойство речевой единицы, связанное с установлением ценностного отношения субъекта речи объекту[67]. Для медиадискурса в целом и арт-медиадискурса в частности оценочность является институциональным качеством, поскольку реализует важнейшую функцию медиатекста – воздействующую, направленную на создание общественного мнения по общественно значимым вопросам. Социальная оценочность позволяет реализовать принципы журналистики как института «четвертой власти».
Оценочность является текстовой реализацией оценки, универсальной категорией[68]. Однако большинство исследователей рассматривают проявления оценочности на языковом, а не дискурсивном уровне. Работы таких ученых, как С. Г. Шейдаева, Л. М. Васильев, Э. Ю. Гаранина и др. показывают, что оценочность проявляется на всех языковых уровнях: лексическом, морфологическом, синтаксическом, композиционном[69]. Как отмечает Е. В. Кочеткова, «в первую очередь оценка актуализируется лексико-семантическими средствами языка, выражающими ее эксплицитно и имплицитно, денотативно и/или коннотативно, прямыми номинациями, определениями-характеристиками и через характер совершаемых действий (глагол-сказуемое)»[70]. Кроме того, оценка может выражаться с помощью различных аффиксов (например, уменьшительно-ласкательные суффиксы: душа – душонка), с помощью особых морфологических форм – например, сравнительной и превосходной степени прилагательных. Оценочные высказывания также широко представлены в объеме средств выражения оценки. Проявляться оценка может и графически, например, через шрифтовое выделение.
Многие авторы работ, посвященных оценке, рассматривают оценочность как набор оценочных речевых средств[71]. Мы предлагаем изменить угол зрения, переключить внимание со статичного набора средств репрезентации на динамичные механизмы оценивания, исследовать процесс формирования оценки, его стадии, влияние на этот процесс дискурса, прежде всего, в аспекте функционирования оценки. Отметим, что процесс оценивания, по нашему мнению, недостаточно изучен в современной науке. В. В. Сутужко отмечает: «Многие исследователи не различают процесс оценки (оценивание), осуществление оценки (оценочная деятельность) и результат оценки (оценка как таковая), или отождествляют оценочную деятельность, оценивание и оценку» [72].
На наш взгляд, оценивание – процесс, определяющий и основополагающий все последующие стадии оценочно-ценностного процесса: он формирует оценку как результат процесса, продуцирует ценности в результате осмысления действительности, и опосредованно, через оценку и ценности, влияет на ценностные установки, представления и оценочные высказывания, суждения. Для нас принципиально важно, что дифференцированность понятий «оценка», «оценочность» и «оценивание» не исключает их неотделимости друг от друга, вовлеченности в один процесс.
1.3. Эстетическая оценка в журналистском арт-дискурсе
В современной науке лингвистическое исследование процесса оценивания неизменно базируется на основных положениях теории оценки. Так, идея существования общей и частной оценок основывается на взаимодействии субъекта оценки с ее объектом. Общеоценочные значения выражаются прилагательными «хороший/плохой» и их синонимами с различными экспрессивными и стилистическими оттенками (великолепный, скверный, поганый и др.). Однако оценка не всегда представлена общими значениями, она может выражаться более конкретными – частными – понятиями. В основе классификаций частнооценочных значений лежит мотивация оценок:
– сенсорные оценки (сенсорно-вкусовые – вкусный, ароматный, и психологические: интеллектуальные – увлекательный, скучный и эмоциональные – радостный, унылый);
– сублимированные оценки (эстетические – прекрасный, отвратительный и этические – добрый, аморальный);
– рационалистические оценки (утилитарные – полезный, вредный, нормативные – нормальный, неправильный, телеологические – эффективный, нецелесообразный).
Общая оценка, выраженная высказыванием, может выводиться из суммы входящих в высказывание частнооценочных значений. Благодаря этому по высказыванию, не содержащему слова «хорошо», мы можем сделать вывод о намерении автора транслировать положительную оценку. Например, входящие в состав высказывания «Это блюдо вкусное, полезное, очень красиво подано» сенсорно-вкусовая, утилитарная и эстетическая оценки формируют холистическую положительную оценку. Так совокупность частных оценок образует общую оценку, а комплексность содержания общеоценочных значений проясняется через частные оценки: «Что значит хороший работник? Это работник дисциплинированный, ответственный, способный достигать цели» – в данном случае смысл, контекстуально заложенный в общеоценочное слово «хороший», раскрывается с помощью интеллектуальных и телеологических оценок.
Для данного исследования важнейшей оказывается категория эстетической оценки. Эта категория (вместе с этической оценкой) выделена в группу сублимированных, абсолютных оценок. Объединяются эти два типа оценок по принципу «возвышенного» удовлетворения чувств: этическая оценка направлена на удовлетворение нравственного чувства, эстетическая – чувства прекрасного (в противовес оценкам сенсорным, удовлетворяющим органы чувств)[73]. Это духовно-нравственный комплекс оценивания. Поскольку эстетическая категория оказывается напрямую связана со сферой искусства (через понятие прекрасного), именно эта категория становится предметом более детального рассмотрения.
Эстетическая оценка – средство установления эстетической ценности какого-либо объекта, осознаваемый результат эстетического восприятия, обычно фиксируемый в суждениях типа «Это красиво!», «Это уродливо!» и т. п.[74] Можно предположить, что эстетические суждения такого вида соотносятся с тем, что еще у И. Канта называется «суждениями вкуса». И. Кант писал: «Чтобы определить, прекрасно ли нечто или нет, мы соотносим представление не с объектом для познания посредством рассудка, а с субъектом и испытываемым им чувством удовольствия или неудовольствия посредством воображения»[75]. Таким образом, выдающийся философ одним из первых обозначает принципиальные отличия эстетических суждений: это суждения не логические, а эмоциональные, субъективно-объективные (поскольку формируются субъектом индивидуально через свои переживания, но «всякое отношение представлений, даже отношение ощущений может быть объективным»[76].
В силу того, что эстетическая оценка основана на категории прекрасного, она естественным образом оказывается связанной с искусством как воплощением прекрасного в реальности, поскольку искусство определяется как «любая деятельность, направленная на создание эстетически выразительных форм»[77]. Эта связь прослеживается со времен Древней Руси[78] и до наших дней. По Пименовой, эстетическая оценка социально обусловлена и воспринимается как «признак оцениваемого объекта с точки зрения существующего в ту или иную эпоху национального представления о красоте-безобразии в рамках “картины мира” данного социума»[79]. Именно анализ выражения эстетической оценки в текстах древнерусской литературы позволяет сформировать эту «картину мира» общества, жившего тысячелетие назад, получить представления о высших ценностях, существовавших в ту эпоху.
С возникновением журналистики эстетическая оценка становится не только средством формирования представлений о ценностях, но и служит для организации особого вида публицистики – журналистики об искусстве, художественной критики. В силу того, что, по утверждению Л. Р. Дускаевой, «публикации о жизни в сфере искусства – это репрезентация результатов эстетического осмысления журналистом-зрителем/слушателем явлений и произведений искусства»[80], сферой воплощения эстетической оценки, донесения ее до широкой аудитории становится, в первую очередь, арт-медиадискурс.
Формирование арт-медиадискурса в России началось с культурно-просветительской журналистики, возникшей на заре зарождения журналистики как важнейшего социального института. С восемнадцатого века складывалась национальная традиция, под воздействием общественно-политических факторов определялись ее специфические черты. Культурно-просветительская журналистика, являясь одним из институтов культуры, и сейчас участвует в пропаганде и распространении в обществе высоких культурных ценностей, пытаясь способствовать гармоничному развитию человека.
Эстетическая оценочность является институциональной характеристикой медийного арт-дискурса. Именно идеалы эстетики заложили русскую критическую традицию, для которой характерны близость эстетического и этического (об этом свидетельствует, например, правило, сформулированное А. Ф. Мерзляковым: «театр есть училище нравственности»[81], а также введенное А. И. Галичем понятие «эстетическое достоинство»[82]), объективность, тесно связанная с глубокой аксиологичностью. В. Г. Белинский в «Обозрении русской литературы от Державина до Пушкина» так формулирует задачу настоящей критики: «Она должна определить значение поэта и для его настоящего, и для будущего, его историческое и его безусловно художественное значение»[83]. Как отмечает Л. Н. Столович, то, что выдающийся критик называет «значением», и есть, в сущности, ценность[84]. Именно в русле традиционной русской эстетики развивается критика, а соответственно, оценивание произведений искусства.
В то же время современное российское медиапространство, освещающее искусство, обладает своими отличительными свойствами. Н. С. Цветова, как мы уже отмечали, определяет два типа дискурса, презентующих культуру и искусство. Первый из них развивается в русле русской журналистской традиции, тогда как второй эволюционирует под влиянием европейского опыта[85]. Как отмечает исследователь, гиперинтенция СМИ, принадлежащих к первой группе, связана с наследованием национальной просветительской традиции, заложенной в восемнадцатом веке, т. е. в необходимости создания особого культурного пространства, которое способствовало бы развитию творческих задатков читателя, расширению эмоционального опыта человека, его духовного развития.
Во втором типе дискурса доминирует, напротив, побудительно-осведомительная интенциональность, соотносимая с информационно-пропагандистскими задачами. Под пропагандой понимается продвижение образа жизни и ценностей, при котором эстетический критерий отходит на второй план. Исследователь называет этот сегмент дискурса «арт-журналистикой» – журналистикой, занимающейся сбором информации о событиях, темах и тенденциях в развитии современного искусства, его формах и жанрах с целью стимулирования потребительского интереса к данным объектам, как имеющим определенную материальную ценность или способным провоцировать релаксационное состояние. Арт-журналистика, по мнению специалистов, характеризуется следующими функциональными признаками: ориентированностью на формирование сознания гармонически развитой личности; наличием особого типа агента (автора публикации) и адресата (массовая аудитория), определенными жанровыми предпочтениями (программные, критические и проблемные статьи, обзоры, статьи информационно-просветительского характера, рецензии, заметки, информационные сообщения и т. п., а также рассказ, очерк, повесть, роман, стихотворение, поэму, комедию, драму и другие художественные жанры)[86].
Арт-журналистика – «регулярный сбор и компетентная интерпретация информации о событиях, темах и тенденциях прежде всего современного или актуального искусства с использованием всего разнообразия речевых жанров с целью воздействия на общественную и индивидуальную аксиологию и формирования потребительской активности массовой аудитории»[87]. Ключевое отличие арт-журналистики от журналистики культурно-просветительской состоит во включении в ее поле наравне с качественными публицистическими материалами, в том числе текстами корпоративных изданий институтов культуры, рекламной и пиар-информации. Сверхзадачей арт-журналистики является продвижение товара, предмета искусства. Это объясняет тот факт, что в настоящее время усложнено речевое воплощение категории оценочности в текстах, презентующих произведения искусства в массмедийном пространстве. Новые правила диктует рыночная экономика: произведение искусства должно быть конкурентоспособным, интересовать аудиторию, которая выступает в данном случае как потребитель. Отношения адресат (автор) – адресант (публика) овеществляются, в них коммерческая составляющая становится ведущей по отношению к эстетическому, нравственному, аксиологическому компонентам. Медиа приобретают новый статус, выполняя роль средства продвижения товара (где под товаром понимается произведение искусства). Это приводит к тому, что к таким функциям дискурса, как информирование и анализ, добавляется PR и рекламная функция, и не только добавляется, но и стремится к доминированию.
Специалисты отмечают следующие тенденции в фукционировании медийного арт-дискурса: повышающийся динамизм, определенно выраженная антропоцентричность, параллельное использование и развитие информационных, аналитических и новейших PR-жанров; эксплуатация достижений, наработок современной отечественной гражданской, корпоративной, интернет-журналистики[88].
Кроме того, объекты искусства могут упоминаться в медиадискурсе в связи со скандальными инфоповодами, такими как, например, строительство Охта-центра. Аналитический, оценочный компонент исчезает из текстов, посвященных Охта-Центру, остается только информационная часть: «“Охта центр” прокладывает путь высотного строительства в городе. Путь этот, как отмечает главный архитектор проекта Филипп Никандров, непрост – нужно готовить отсутствующую в России нормативную базу для проектирования подобных объектов» (Фонтанка. ру, 9.04.2010). В этой части создание нового архитектурного объекта подается как событие, функционирующее в нормативно-правовом дискурсе, но не в сфере искусства, архитектуры. Аналогичны и другие публикации, посвященные этой теме: «Проект строительства в Петербурге напротив Смольного собора комплекса “Охта-центр”, доминантой которого может стать почти 400-метровый небоскреб, разделил город на два непримиримых лагеря. Часть петербуржцев опасается, что небоскреб испортит панораму Северной столицы, исторический центр которой внесен в фонд международного культурного наследия ЮНЕСКО» (Деловой Петербург, 24.05.2010). Характеризуется в приведенном высказывании не арт-объект, а отношение к нему общественности, иными словами, «Охта-центр» презентован как основание для общественно-политического конфликта. Интересно, однако, что спустя несколько лет, когда вопрос со строительством уже разрешен, в том же издании появляются журналистские оценочные характеристики архитектурного произведения: «Окончательно избавиться от гигантского небоскреба не удалось, но по крайней мере от него спасли центр» (Деловой Петербург, 16.08.2016).
Достаточно легко обнаруживается и топическая разница. Так, при освещении в СМИ живописи возникают иные проблемы. Этому роду посвящены, с одной стороны, серийные издания, подробно рассказывающие о биографии и творчестве живописцев (см. серию «Великие художники» издательства «Комсомольская правда»), с другой – медиатексты о современном искусстве, о выставках русских классиков и современников. В этом сегменте можно выделить такой тип: выставки как инфоповоды (например, выставка Яна Фабра, вызвавшая широкий резонанс в медиасреде).


