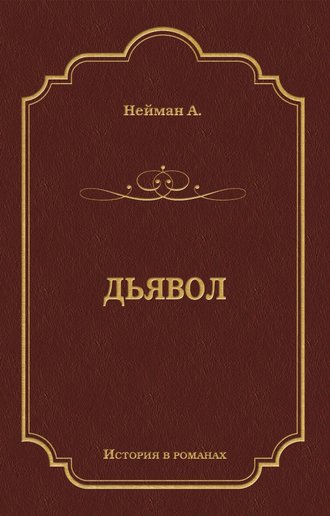
Альфред Нейман
Дьявол
Элиза с беспокойством уставилась на него.
Он не стал отвечать на ее расспросы и казался утомленным. Тогда она поцеловала его легонько в лоб и ушла.
В ту же ночь Оливер встал и, одевшись, собрал свои вещи в узелок. Потом с маленьким фонариком в руках пошел он босиком к каморке отца, который уже много лет спал один. Дверь была заперта. Оливер постучал. Отец сейчас же ответил бодрым, несколько хриплым голосом:
– Кто там?
– Оливер.
– Что ты хочешь, Оливер?
– Открой, отец.
– Зачем тебе, Оливер?
– А почему ты не хочешь открыть, отец?
Клаэс помолчал с минуту, тяжело дыша, потом заговорил:
– Я не хочу тебя видеть, Оливер.
– Как же не хочешь ты меня видеть, отец, раз ты должен меня выслушать?
Тут Оливер услышал короткое, дикое всхлипывание. Минуту спустя он сказал еще тише:
– Разве тебе легче меня не видеть, отец?
– Я не знаю, о чем ты говоришь, – отвечал тот глухо, как если бы его рот зажимала рука, – но, во всяком случае, я не хочу тебя видеть, Оливер!
Прижавшись лицом к шероховатым доскам, сын простонал:
– Мне надо уходить отсюда, отец.
– Почему, Оливер?
– Я знаю, где лежит Розье и как она выглядит.
После этого наступила такая тишина, что Оливер слышал биение своих висков о дерево. Потом Клаэс зашептал:
– Да, ты должен уйти, Оливер.
В ответ Оливер тихо спросил:
– Это все, отец?
– Я тебя любил и все еще люблю, Оливер, сын мой.
Оливер упал на колени и вонзил ногти в пол:
– Отец, а завтра ты еще будешь меня любить?
Голос Клаэса прозвучал свободнее, страх оставлял его:
– Мертвые не любят, Оливер.
Мальчик подергал запор и мучительно застонал:
– Я хочу видеть тебя еще раз, отец, я хочу тебе что-то сказать, отец, что-то, что я знаю и чего ты не знаешь.
Клаэс перебил его ясным, спокойным голосом:
– Ты меня не должен больше видеть, Оливер, и не должен ничего мне говорить. Ты должен презирать людей, как я их презираю, но ты не должен обожать себя, ибо ты не Дьявол, а всего лишь бедный человек; ведь и я не люблю себя, ибо я тоже бедный человек. Ты имеешь право причинять людям боль, так как этим ты и себе делаешь больно. Вскоре ты узнаешь, что боль стоит рядом с радостью, а может быть, ты это уже узнал, Оливер. А теперь иди!
Когда Оливер был уже на дороге между Тильтом и Гентом и наступило утро, в доме раздался вопль Элизы, нашедшей удавленника.
Оливер поспешил покинуть Гент, прежде чем слух о деревенском происшествии достиг города. Уже в полдень нашел он одного льежского торговца оружием, ехавшего в собственной повозке в Брюгге и выразившего согласие за плату взять с собой мальчика.
В Брюгге Оливеру не долго пришлось расспрашивать о Луизе. Хозяин гостиницы, у которого год назад он стоял с сестрой, оставив ее потом в полное обладание богатому тучному старику суконщику, стал насмешливо разглядывать тщедушного юнца; потом трактирщик иронически спросил, есть ли у Оливера возможности подступиться к этой даме – а возможности потребуются в двойном смысле (тут хозяин грубо засмеялся), потому что-де она одновременно и самая пылкая, и самая дорогая куртизанка во всем городе. Оливер засмеялся вместе с хозяином, не дав ему никакого ответа, и, не напоминая о себе как о ее брате, сумел получить от него нужный адрес.
Луиза проживала в прекрасном доме близ ворот Св. Якова. Так как она имела дело исключительно с большими господами, то власти предержащие ее не беспокоили, тем более что она часто жертвовала на церкви, женские обители и богадельни, само собою разумеется, скорее из мудрого расчета, чем из чувства милосердия. Суконщик был ею уж отставлен. После того как он подарил ей дом, он стал скуповат и стеснителен, а так как ее красота была достаточно известна, то она имела возможность выбирать среди богатых купцов Флорентийской колонии и великолепных сыновей благородных фамилий Брюгге. Ла Росса, как ее прозвали и как вскоре она сама стала себя называть, была довольна своей судьбой.
Перед Оливером возникло препятствие в виде гиганта привратника, который упрямо и недоверчиво заявил, что госпожа сейчас не принимает.
Мальчик, в интересах своего будущего положения, нашел выгодным не называть себя ее братом. Он выдал себя за школяра, которого Росса намеревалась-де взять к себе в услужение в качестве секретаря. То ли его черное платье было похоже на костюм школяра, то ли слова были похожи на правду, но только привратник впустил его в дом.
Луиза приняла брата приветливо. Он остался у нее и стал услуживать ей, как и в Тильте. Но о своем родстве они помалкивали. Познакомившись с положением дел, Оливер через несколько недель с большой уверенностью взял на себя заведование ремеслом сестры. Он быстро понял исключительную власть ее тела и наметил для нее более высокие цели. Он обратил внимание на то, как во время мессы в церкви Св. Сальватора один высокопоставленный прелат не спускал с нее глаз. Она стала его любовницей и оказалась достаточно умна, чтобы последовать совету Оливера ограничить круг своих отношений к мужчинам, как того желал влиятельный и благосклонный к ней князь церкви. Что касается прелата, то ему понравился услужливый, во многих отношениях полезный и умеющий держать язычок за зубами, неглупый мальчик, которого одно время он намеревался пустить по духовной части. Оливер не возражал. Он учился грамоте и латинскому языку у братьев ордена госпитальеров[6], все время ловко растягивая срок искуса, назначенного его покровителем. Вскоре со свойственной ему наблюдательностью он заметил, что в присутствии Луизы лицо старика уже не оживляется так чудесно, как раньше, и счел выгодным переменить место и покровителя. В связи с этим в ближайшие же дни увидел Оливера у себя на квартире папский легат, молодой и красивый человек старинного рода, который, пируя у Луизы вместе с прелатом, бросал на нее жадные взоры. При встрече с достопримечательным секретарем этой дамы он услышал от него весьма обдуманное предложение: госпожа согласна следовать за ним, легатом, если он лично войдет в соглашение по этому поводу с прелатом и устроит через него покупку дома; если он будет готов взять с собой ее секретаря, привратника и двух служанок; если он обяжется по их прибытии в Рим просить о ее благосклонности не ранее восьми дней по приезде и если он сможет в течение этого же срока обеспечить ее необходимые расходы. Легат, которому не давала покоя блестящая бледность кожи Россы, ее узкий твердый рот, ее продолговатые глаза, становившиеся иногда янтарными, сказал «да» и встретил у добродушного, умно улыбающегося прелата не весьма большое сопротивление, каковое и сумел преодолеть. Они направились через Францию и Анжу в Ниццу, а оттуда на папской галере отплыли в Рим.
Там иноземная красота молодой женщины снискала ей восторженное поклонение. Легат не мог долго удержать Фиаммингу, как прозвали Луизу римские жуиры; он уступил ее всесильному кардиналу Борджиа[7] за богатое аббатство, тем более что был тщеславен и надеялся на кардинальскую шапку, если Борджиа получит желанную папскую тиару. Оливер остался первым лицом небольшого придворного штата Луизы, неизбежной инстанцией для получения ее согласия, персоной, с которой считался сам кардинал. И так как Оливер придерживался в своей политике мудрого правила: определенно и честно стоять на страже интересов того, чья дружба наиболее полезна, а равным образом следил за тем, чтобы отбирались подарки и у других претендентов, но сами они не проникали дальше преддверия спальни, то кардинал смотрел на него как на своего сообщника. Он занялся юношей сначала лишь для того, чтобы понравиться ему, а через него и Россе; потом заметил он нечто необычайное в молодом человеке: его стремление к темным целям, какую-то страшную, нехристианскую энергию, искрившуюся у него в глазах и делавшую его взгляд труднопереносимым. Однако это не был тот злой взгляд Джетатора[8], который надо поймать и парализовать амулетом из рога, раздвоенными ветками коралла или, по крайней мере, крестным знамением; нет, эти глаза не выступали наружу и не были близко расположены друг к другу, они сидели глубоко, осененные длинными ресницами, как глаза женщины; глаза неопределенного, неизмеримо глубокого мрака, манящего и опасного, как недвижная гладь альбанского озера. Кардинал заметил его поведение, умное, спокойное и в то же время полное сознания своей ответственности, его удивительную память, которой потребовалось едва ли четыре месяца для усвоения языка, его способности интригана, благодаря которым он в минутном разговоре распознавал людей, с тем чтобы, вооружившись знанием их слабостей, не грубо сбивать их, а запутывать, мягко и незаметно вести к поражению. Борджиа понял практическую полезность подобного человека, которого он уже не считал мальчиком (сам Оливер никогда не говорил о своих летах); несколькими словами направил он его, не страдавшего избытком совестливости, в новую и привлекательную область, область закулисной политики. Оливер, работая для него в качестве тайного секретаря, осведомляя его, вожака испанской партии, о делах противной группы, состоявшей из антиклерикальной римской аристократии и гуманистов, связанных с Папой Пием II[9] научными интересами и настойчиво боровшихся против кандидатуры Борджиа. Оливеру нетрудно было использовать для своих политических целей казавшийся нейтральным маленький палаццо близ форума Траяна, в котором жила Луиза; пользуясь Фиаммингой как приманкой, он склонил к должной доверчивости выдающихся аристократов и ученых. Но когда он по приказу кардинала поджег собранный им горючий материал, ему пришлось самому же пострадать от этого. Один ученый, принадлежавший к числу фанатических поборников республиканских и антипапских тенденций, Лоренцо Валла[10], доведен был Оливером и прочими провокаторами кардинала до заговора против жизни Папы. Борджиа надеялся получить таким способом возможность уничтожить всю партию, раскрыв заговор накануне покушения. Но ученый сдал раньше времени: он явился к папским властям, сознался в замысле и назвал своих сообщников. Борджиа, сам с трудом выпутавшийся из этого дела, без всякого раздумья отступился от своих людей. Однако, когда папские сбиры[11] проникли в дом Россы, чтобы арестовать ее секретаря и повесить его вместе с другими на башенке в замке Св. Ангела, они не нашли его. Оливер уже бежал в Браччиано, владетель которого охотно принимал всех тех, кого Папа преследовал. Там занимался он копированием латинского перевода Поджио «Киропедии» Ксенофонта[12]. Он обещал герцогу достать Фиаммингу.
Но Оливер больше уже не нашел своей сестры. Когда смертоносная чума ударила по сутолоке Священного года[13], он осмелился посетить Рим, охваченный ужасом, покинутый Папой, курией и магистратом. Кардинальский дворец и дом Россы он нашел тоже пустыми. Одни говорили, что куртизанка умерла, другие утверждали, что она еще до начала эпидемии бежала в Неаполь с придворным короля Альфонса, третьи якобы видели ее в свите Борджиа, бежавшего от чумы на юг. Оливер почувствовал грусть; захватив с собой маленький портрет Луизы, он отправился вместе с копиистом Джорджио Трапезунцио во Флоренцию.
Там работал он поначалу опять как писец и брадобрей; натолкнувшись благодаря одной покровительствовавшей ему публичной женщине на мысль изготовлять разные притирания и косметики, он достиг в короткое время известного благосостояния. Но снадобья его содержали в себе слишком много ртути и были вредны для здоровья, посему он с трудом избежал Барджелло[14].
После этого наступил период его пятилетнего странствования под сотней различных масок и имен. Был он писцом, школяром, брадобреем, врачом-шарлатаном и чернокнижником, шпионом, сутенером и шулером, прошел через многие жизненные бездны и сквозь водовороты быстротечной судьбы; он шел, лишь задеваемый событиями, но не захваченный ими, никогда не оставляющий за собой ничего, кроме платья, изредка кусочка кожи, более любимый, чем ненавидимый людьми, сам же не любящий и не ненавидящий никого, пользующийся своим превосходством, но не алчный до денег и все сильнее чувствующий тоску по северу.
Оливеру было двадцать пять лет, когда он вновь объявился в Генте. В первый же день его потянуло в Тильт. Он пришел туда в обеденный час; без волнения смотрел он на кирпичную деревенскую церковь, знакомые дома и дорожки, на родительский двор. «Чего мне здесь надо?» – спросил он сам себя, удивленный все не покидавшим его чувством ожидания. Элиза превратилась в грузную матрону с прядями седых волос. Она обернулась к дверям и сказала своим глухим, несколько гортанным голосом:
– Ах, Оливер!
Поднявшись с приветливым видом, она пошла к нему навстречу. Генрих, начавший уже лысеть, приветствовал его и, указав почти торжественным движением на хорошенькую молодую женщину, сидевшую около него, сказал:
– Это Лизбет, дочь мейстера Виллема Рима. Мы женаты уже два года.
Но всех их Оливер подарил лишь беглым взглядом и таким же словом. За столом около Лизбет сидела девочка лет десяти – двенадцати, улыбнувшаяся ему, как только он вошел в комнату. Редко случалось, чтобы люди ему улыбались, и никогда еще и с ним не бывало, чтобы улыбающийся человек распространял вокруг себя свет, который отразился бы у него в глазах и в груди. Он ответил на ее улыбку хорошим смехом, а ведь смеялся он не часто. Чистая и неведомая радость пронизала его, как хмель, – да, как хмель, и переплелась с опьяняющей мыслью: а ведь я ожидал эту радость.
Он отвел свой счастливый взгляд от серых глаз и чудесных зубов девочки, с торжеством взглянул на других, и вот все трое засмеялись, и комната больше уже не была темной. Элиза сказала:
– Я рада, что тебе хорошо, Оливер.
А Лизбет объяснила:
– Это Анна, моя сестренка.
Оливер опять взглянул на девочку.
– Ну, теперь я остаюсь в Генте, – сказал он, продолжая улыбаться.
Оливер вступил в цех брадобреев. Ему не трудно было этого добиться, ибо он был Неккером, человеком, совершившим далекое путешествие, а также и потому, что он работал в качестве старшего подмастерья у Виллема Рима, цехового мастера, уважаемого вождя гентского освободительного движения. Оливер вскоре сделался мастером и реорганизовал вместе с Виллемом Римом оппозиционную партию, очень озлобленную в результате несчастной войны с Бургундией и потери исконных городских вольностей. Старый мастер любил его как сына, видел в нем только патриота и ловкого цехового подмастерья и, когда Анне минуло пятнадцать лет, выдал ее за него замуж. Вскоре после этого Рим умер, и Оливер наследовал от него и его профессию, и его политическую деятельность.
Только теперь, будучи независимым и обладая любимой женщиной, дозволил он себе быть тем, чем он был на самом деле. Постепенно и неуловимо терроризовал он бургундскую партию, не из патриотизма, а из удовольствия политической игры, наслаждаясь своей умственной силой и разумно уяснив себе превосходство французского противника.
Он работал, опираясь на темные стороны своего природного гения и жизненного опыта. Он сумел, не выдавая себя, свести на нет вождей противной партии и отнять у них приверженцев из среды легко воспламеняющегося народа.
Вообще же это был обязательный и со всеми приветливый человек, по-видимому, без большого личного самолюбия, не думавший об административной должности и выступавший публично не слишком часто и не слишком редко. Но он уже крепко держал в руке невидимую узду, направляя людей куда ему нужно, а толпа не замечала ни рулевого, ни тайного ловца душ.
Он стал агентом Франции не из личного интереса, но испытывая радость стратега, по-своему направляющего противоречивые движения и силы. В глазах народа он оставался гентским патриотом. Народ величал мейстера Оливера Дьяволом, подобно тому как деревенская дворня называла его этим именем, когда он был еще мальчиком. Но сам он чувствовал разницу в этом наименовании: ведь теперь это было не проклятием испуганных слуг, но восхвалением со стороны гентских граждан, которые уважали Дьявола и любили его.
Глава 3. Пробный камень
После отъезда герцога поведение мейстера Оливера стало мало кому понятным. Все свое внимание он направил на то, чтобы удержать возбужденный город от напрасного ропота против Брюсселя. Через посредство преданных ему цехов он добился у городских старшин того, чтобы в первые дни волнения дома герцогских чиновников охранялись вооруженными людьми и чтобы вожаки бургундской партии, взятые под стражу, были отпущены на свободу без поругания их бюргерской чести и достоинства. Голоса этих людей вместе с голосами умеренных цеховых мастеров дали Неккеру сплоченное большинство против крайних, которые требовали союза с восставшим Льежем.
На следующий день после тайного по этому поводу совещания Оливер встретил Питера Хейриблока около товарных складов Коорилея. Купец, не принадлежавший ни к одной из господствовавших корпораций, боязливо избегал мейстера, памятуя их недавний разговор и находясь под впечатлением последних событий. Теперь же, увидев его неожиданно возле себя, он попытался скрыть свой страх под личиною холодной учтивости. Но Оливер, сделав нетерпеливое движение рукой, сказал ему серьезно:
– Тебе никто не желает зла, Хейриблок, напротив, в тебе нуждаются.
Питер взглянул на него с недоверием. Мейстер же, затащив его в проход под воротами, тихим голосом, в кратких словах рассказал ему о цели и результатах голосования и предложил поехать в Брюссель, чтобы информировать об этом деловые круги; само собой разумеется, это надо было сделать искусно, как говорится, между делом. Хейриблок нахмурил лоб:
– Очевидно, ты считаешь меня очень глупым, Оливер, раз предполагаешь, что для меня достаточно самой аляповатой из твоих дьявольских ловушек?
Мейстер сердито покачал головой: разве ему, Питеру, не известен гентский закон, по которому член магистрата, нарушивший должностную тайну, карается смертью как изменник?
– Что же ты хочешь сказать этим, Неккер? – спросил Хейриблок.
– Боже мой, Хейриблок, я хочу этим сказать, что ты, недолжностное лицо, с этой минуты держишь меня, члена магистрата, в руках. Ну что же, ты все еще подозреваешь какие-то ловушки и не видишь, как я озабочен?
Купец молчал. Оливер поведал ему свою заботу: как бы герцог, усмиряя Льеж, не расправился одновременно и с Гентом. Его нужно умилостивить во что бы то ни стало.
– А так как ты привезешь ему добрые вести, – закончил Оливер, – то ты можешь сам, Питер, прикинуть свою выгоду в цифрах.
Он ушел. После полудня явился к нему Питер Хейриблок и заявил, что принимает поручение. События показали, что мейстер был прав. Льежцы восстали, убили герцогских чиновников и продвинулись до С. Труидена. Для Оливера и умеренных городских старшин наступили тяжелые дни, так как крайние через их головы призывали буйных гентцев к оружию. Смелый тактический ход магистрата, по совету Оливера объявившего о победе герцога на двадцать четыре часа раньше времени, произвел резкую перемену. Двое подстрекателей были казнены в порядке ускоренного судопроизводства, и брюссельским властям было сообщено о приговоре как раз в тот момент, когда герцог действительно разбил льежцев у С. Труидена и Тонгрена. В то самое время, как он подошел к Льежу, в несколько дней взял его почти без боя и сурово с ним расправился, Оливер послал Питера Хейриблока вторично в Брюссель. Когда же тот вернулся обратно, мейстер поразил магистрат чудовищным предложением, а именно: так как для сохранения большей части городских вольностей одного нейтралитета теперь уже недостаточно, то потребуется проявление особой лояльности, добровольное отречение от ряда чисто формальных привилегий. При этом Оливер воскликнул повышенным, прерывающимся от волнения голосом:
– Я знаю, что говорю, господа! Я знаю также, почему я так говорю! Я немало сделал для усиления гентской партии и для возвращения городу его прав. Найдется ли среди вас кто-нибудь, кто полагает, что за последнее время мои предложения служили иному интересу, кроме интересов нашего города?
Все молчали.
– В таком случае, – продолжал Оливер, – осмелюсь предложить высокому совету во имя благополучия нашего славного города послать в Брюссель десять именитейших граждан со знаменами цехов – да, да, смиренно, пешком в Брюссель, – с тем чтобы повергнуть эти знамена к стопам герцога. Вернет он их или оставит у себя, какое нам до этого дело? Ведь в Генте шелку достаточно, а молодой государь любит пышные церемонии. Внешнее проявление покорности заставит его забыть об усмирении, которое он замышляет, да, граждане, воистину замышляет!
Последние слова, произнесенные громко и убедительно, не допускали возражений. Первый старшина спросил после долгой паузы:
– Согласны ли вы, мейстер Неккер, возглавлять делегацию?
Оливер, закрыв глаза и сжав губы, раздумывал минуту, опершись руками о край стола. Потом медленно ответил:
– Я благодарю господ старшин за их лестное предложение. Я согласен войти в состав делегации, но для того, чтобы стоять во главе ее, у меня, младшего из цеховых мастеров, не хватает необходимых данных. Если вы назначите меня, это повредит нашему делу, особенно же в глазах зоркого герцога.
Главой делегации избрали третьего городского старшину, членами ее кроме Оливера – четырех советников и трех цеховых мастеров, принадлежавших к бургундской партии. По предложению Оливера выбрали и виноторговца Хейриблока, которому он был обязан своей брюссельской информацией.
– Анна, – сказал Оливер, придя домой и с улыбкой целуя жену, – большая игра начинается, и благодаря мне Гент лишится хорошего брадобрея и девяти доблестных граждан. Впрочем, это небольшая цена за его спасение. Начинается также и наша большая игра, Анна, – добавил он.
Два дня спустя после того, как город торжественным заявлением взял на себя заботу о личных и профессиональных интересах членов делегации, эта последняя двинулась в путь. У каждого из ее участников был свой слуга, у Оливера – Даниель Барт. На первой остановке, в Веттерене, мейстер незаметно принял некий флорентийский порошок. Во время дальнейшего пути лицо его покрылось желтизной, и его стало лихорадить. С трудом дотащился он, опираясь на Даниеля, до Аальста. Здесь он свалился в бреду, со стеклянными глазами. Пришлось его оставить на постоялом дворе под надзором Барта. Хейриблок попытался было поговорить с больным наедине, но Даниель Барт не отходил от его постели и наконец сказал со злым лицом:
– Господин Питер, мейстер еще в Генте говорил, что вы знаете не меньше его, так чего же вы от него хотите?
Хейриблок вышел, не сказав ни слова. В минуту просветления Оливер потребовал к себе священника и Анну; растерявшийся старшина незадолго до отбытия делегации послал верхового в Гент за Анной. Гонца немного удивило то, что жена Оливера оказалась уже готовой к отъезду, но высказанное ею горе по поводу болезни мужа и несколько серебряных талеров помешали посланному долго задумываться над этим вопросом.
Делегация, отнесшаяся к утрате Оливера как к неприятному осложнению своей миссии, прибыла в Брюссель в скверном настроении; удивленная, что для ее приема не было сделано ни малейших приготовлений, она не предвидела ничего хорошего. Несмотря на выстаивание в герцогской передней часто отлучавшегося Хейриблока, делегации пришлось прождать немало времени, прежде чем она была принята.
Когда же большинство делегатов решило вернуться в Гент и сообщило о своем намерении властям, то в ответ на это к их квартирам был приставлен военный караул. В конце концов они получили в не особенно учтивой форме приказание предстать перед герцогом. Во дворце их ожидал весьма суровый прием: знамена были разорваны у них на глазах, а самих гентцев герцог задержал в качестве заложников для того, как объяснил государь, чтобы оградить себя от будущих чудес святого Льевэна.
В остальном же, заявил он, милость его велика, ибо он пока не собирается расправляться с Гентом, хотя строптивый город и заслужил этого вполне. Он разрешает им послать в Гент одного из их слуг, чтобы предупредить магистрат о той смертельной опасности, которой делегаты подвергнутся при малейшем мятеже в городе. Вернувшись к себе на квартиру в сопровождении стражи, члены делегации заметили отсутствие Хейриблока. Он был послан в тот же день герцогом в Льеж в качестве сборщика податей.
Действие принятого в небольшой дозе препарата, одного из тех тайных средств, которыми флорентийские аптекари обслуживали своих господ, было в несколько часов нейтрализовано соответствующим противоядием. Анна нашла мейстера погруженным в благодетельный сон. На следующее же утро он был здоров и объявил хозяину, что готов продолжать свое путешествие в Брюссель. Все трое покинули Аальст в южном направлении и, повернув к западу у первой же деревни, доехали до Уденаарда, где их ожидал багаж и прочная дорожная повозка. Присоединившись к купеческому каравану, отправлявшемуся в Валансьен, они успели добраться до Парижа как раз в тот момент, когда в Генте разнесся стух, что больной мейстер с женой и старшим подмастерьем загадочным образом исчезли между Аальстом и Брюсселем. Предполагали, что они стали жертвой разбойников или же враждебно настроенного населения. О них сожалели от всего сердца, скорбя вместе с тем об участи остальных.
На пути к Парижу Оливер узнал, что двор находится в Турени[15], куда он и дал знать Жану де Бону о своем приезде.
В Париже он стал дожидаться ответа. Несколько дней спустя в гостиницу близ Тампльских ворот, адрес которой он указал, прибыл курьер с не подписанным, но припечатанным королевской печатью приказом. В этом приказе Оливеру предписывалось использовать свое пребывание в Париже для того, чтобы собрать сведения о францисканском монахе Антуане Фрадэне, проповеди которого в монастырской церкви близ Сен-Жерменских ворот возбуждали всеобщее внимание и не нравились королю; после этого мейстер должен был отправиться в Амбуаз.
– Анна, – усмехнулся Оливер, обращаясь к жене, – государь желает подбросить мне на дорогу еще один пробный камешек, а может быть, этим уже начинается большая игра?
Они прослушали одну из проповедей брата Фрадэна. Собралось много народу. Монах, красивый мужчина, сверкал чудесными зубами. Его могучий голос наполнял серую готическую базилику[16]. Он метал громы против грехов плоти, против сладострастия, против порока чванства. Он не стеснялся употреблять крепкие простонародные выражения; Оливер усмехался. И вот, слегка переменив тон, ослабив напряженность греховной атмосферы среди слушателей, но в то же время держа их в покорном трепете, монах стал жаловаться на пороки высших сословий, затем, незаметно соскользнув на политику, он стал громить дурное правосудие городов, князей и государей. Вскоре он добрался до особы короля. «Да, да, наш великий король!» – воскликнул он с подъемом, исступленно, этим порывом как бы оправдывая и объясняя свою дерзость. На минуту он замолк; громадная аудитория затаила дыхание, женщины в упоении так и впились глазами в лицо оратора, но обличитель сделал небольшой поворот и, казалось, преклонился перед величием: король добр, король желает блага, но люди, окружающие его, плохи, ведь это притеснители, палачи, а может быть, и изменники. Оливер сощурил глаза. Монах еще больше понизил голос и заговорил почти мягко, не глядя на лица и возведя очи к небесам. Он, проповедник, видит опасность для короля, опасность для страны: изменники желают войны, но народ знает, что такое война. Пусть город вспомнит о бедствиях последней осады, от которой его отделяют всего лишь три года; опасайтесь войны!
Оливер усердно разглядывал проповедника. Затем он прошептал жене:
– Это человек не без ловкости; сдается мне, что за ним кроется всякая всячина, но тело у него глупое, бычье. Изловить его чрезвычайно легко.
Анна пришла на исповедь к брату Фрадэну; исповедовалась она не с опущенными, а, напротив, с вызывающе поднятыми глазами. После быстрого отпущения грехов, возбужденно поглаживая ее шейку и сдвигая с груди косынку, монах попросил ее о свидании. Анна указала место в лесу Нельи на берегу Сены, там она обещала быть к его услугам на следующий день при наступлении сумерек. Однако, когда в назначенное время брат Антуан стал быстро подниматься от берега к лесистому холму, он был оглушен сильным ударом по затылку. Даниель Барт поднял бесчувственного монаха и с помощью Оливера привязал к дереву. Потом мейстер подержал под носом брата Антуана какую-то остро пахнущую эссенцию. Монах открыл глаза и, вырываясь из веревок, хотел закричать. Но кислота, которую он тут же вдохнул, чуть не задушила его. Оливер потайным фонарем осветил лицо кашляющего брата, спрятал склянку и, показав ему на свету приказ с королевской печатью, проговорил почти вежливо:
– Именем короля, брат Антуан, а посему звать караул бесполезно и некстати. Вы, к сожалению, попали в ловушку. По роду занятий вы проповедник нравственности, а по натуре – козел. Милосердный Господь часто дозволяет себе проделывать с нами подобные шутки, a потому, как грешный человек, я мог бы вас понять, но у меня, как у представителя королевского правосудия, имеется достаточно материала для того, чтобы разрешить моим людям пустить в ход веревку, а в виде официальной санкции для этого поступка вырезать на древесной коре королевскую лилию[17].
На секунду он направил свет своего фонаря в ту сторону, где, скорчившись, как циклоп, сидел в тени Даниель Барт. На мощных плечах его была безрукавка, какую носили обыкновенно палачи. Монах сказал хрипло и быстро:
– Я не подлежу светскому суду! Меня может судить только приор.
Оливер тихо засмеялся:
– Разве вы не знаете, брат мой, что король не только весьма часто, но и с явным удовольствием пренебрегает подобного рода предрассудками? Или вы, быть может, воображаете, что он удостоил вас собственным приказом потому только, что вы козел? Козел-то вы козел, но дело не в этом, а в том, что политическому агенту нельзя быть козлом, брат Антуан. Вот грех, который я не могу вам отпустить ни в коем случае.
Монах сжал губы и покосился на фонарь. Затем он попросил тихим голосом:
– Не могу ли я увидеть лицо того, кто со мной говорит, потому что трудно отвечать в темноту. Речи же, которые я слышу, не похожи на речи судебного чиновника.
Оливер выпучил глаза и на мгновение осветил свое совершенно неподвижное, со впалыми щеками лицо.
– Изыди, сатана, – завопил монах, извиваясь в веревках, и стал бессмысленно, быстро твердить слова молитвы.
– Брат мой, – засмеялся Оливер, – я мог бы теперь, пользуясь вашим испугом, выпытать у вас все что угодно, но я сделаю это способом более надежным, чем позволяют мне случай, безлунная ночь и ваше смятение. Дьявол ли я, или палач, или же дьявол, состоящий палачом у короля, для нашего случая это совершенно безразлично.


