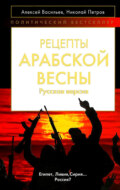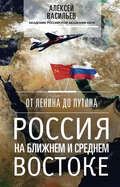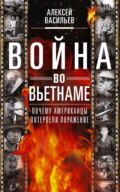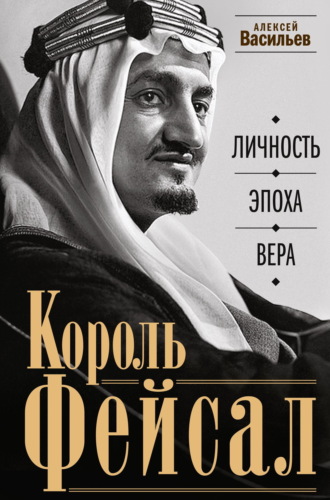
Алексей Васильев
Король Фейсал. Личность, эпоха, вера
Впрочем, религиозно-бытовая регламентация со всей строгостью соблюдалась недолго. Когда ихваны удалились из Хиджаза, запреты на курение табака были ослаблены, желающие могли доставать даже алкоголь, и мало кто следил за длиной бороды.
Для того чтобы показать свою заботу о чистоте религии, но одновременно поставить религиозное рвение ихванов под контроль, Абдель Азиз летом 1926 г. создал Лигу общественной морали, или, точнее, Лигу поощрения добродетели и осуждения греха, под руководством двух улемов из семейства Ааль аш-Шейха. Он распорядился, чтобы, заметив что-либо не дозволенное религией, ихваны доносили об этом в Лигу, а не учиняли самосуда.
Эта организация постепенно стала действовать в качестве религиозного Департамента полиции. Позднее комитеты общественной морали в составе Лиги были поставлены под общий контроль директората полиции. В сферу компетенции Лиги попали обман и жульничество на базаре, невыплата закята, несоблюдение поста, нарушение правил паломничества, убийство или членовредительство, потребление или продажа алкогольных напитков. К лету 1928 г. комитеты общественной морали уже принимали активное участие в заседаниях правительства и все жестче контролировали население Хиджаза. Этот опыт показался Абдель Азизу достойным распространения на всю страну, и к лету 1929 г. он учредил Директорат Лиги поощрения добродетели и осуждения греха в Эр-Рияде.
Но когда разочарованные ихваны удалились из Хиджаза в Центральную Аравию в свои хиджры и племена, стало ясно, что приближается их столкновение с центральной властью.
Сотрудничество Абдель Азиза с англичанами при определении границ с Кувейтом, Ираком и Иорданией и его политика в Хиджазе довели отношения между ним и ихванами до точки кипения. «Братья» считали себя обделенными при распределении добычи в Хиджазе, а запрет набегов в Кувейт, Ирак и Иорданию лишал их возможности поправить свое материальное положение за счет грабежа «неверных». В условиях усугублявшегося кризиса верблюдоводства, неразвитого оазисного земледелия в хиджрах набеги-газу под благочестивым лозунгом казались ихванам естественным выходом из нищеты и голода. Масла в огонь подливало терпимое отношение Абдель Азиза к шиитам Эль-Хасы и Эль-Катифа.
Одним из главных лидеров «братьев» был блестящий воин и военачальник, главный шейх племени мутайр Фейсал Ааль Давши, который удалился из Хиджаза в свою ставку Эль-Артавию смертельно обиженный на Абдель Азиза. Он рассчитывал на пост губернатора Медины, но не получил его.
В оппозиции к королю оказался Зейдан ибн Хисляйн, шейх аджманов, старых и упорных противников Ааль Саудов, лишь недавно покоренных и присоединившихся к ихванам, а также шейх атайба Султан ибн Биджад, хотя главой этого племени он стал с помощью Абдель Азиза. Ибн Биджад рассчитывал на место губернатора Эт-Таифа, но король решил иначе. Среди племен Центральной Аравии атайбы были самым сильным и многочисленным племенем. К движению против Абдель Азиза позднее присоединился один из шейхов руала. Таким образом, племена к востоку, северу, западу и юго-западу от Эр-Рияда становились враждебными центральной власти. Важно отметить, что среди тех, кто был настроен против Абдель Азиза, мы не находим представителей племени аназа (кроме руала), а также харбов, большей части шаммаров, кахтанов или субейев.
Почувствовав, что недовольство ихванов может принять характер открытого восстания, Абдель Азиз поспешно покинул Хиджаз и в январе 1927 г. вернулся в Эр-Рияд. В конце января 1927 г. он собрал в столице около 3 тыс. ихванов. Именно на этом собрании Фейсал Ааль Давиш, Ибн Биджад и другие отколовшиеся ихваны высказали свои претензии. Открытого бунта еще не было, и Абдель Азиз искал компромисс. Он согласился уменьшить налоги, но отклонил требование отказаться от радио и автомобилей. Он даже убедил собравшихся провозгласить его королем Неджда, как и королем Хиджаза, и его титул стал «король Хиджаза, Неджда и присоединенных территорий».
В начале апреля 1927 г. Абдель Азиз снова решил собрать племенных вождей и ихванов; более 3 тыс. ихванов, за исключением Ибн Биджада, приехали в Эр-Рияд. На этот раз Абдель Азиз пытался изолировать Фейсала Ааль Давиша, которого он считал своим главным противником. Видимо, именно на этой встрече Абдель Азиз смог отколоть от мутайров одно из подразделений этого племени, и оно стало выступать против своего шейха.
Не решаясь бросить открытый вызов королю, Фейсал Ааль Давиш стал готовиться к набегам на Ирак. Он рассчитывал обеспечить добычей своих последователей и заставить короля или выступить вместе с ним, или доказать, что он уже не является борцом за дело Аллаха. Король выжидал.
«Абдель Азиз был образцом здравого смысла и осторожности, – отмечал Джон Глабб, в те годы командующий Арабским легионом в Трансиордании, а в конце жизни – историк и писатель – Если он поддерживал фанатизм, то только для того, чтобы использовать его как инструмент для достижения своих целей: он сам никогда не был фанатиком. Однако для диких, неуправляемых людей здравый смысл и благоразумие были малопривлекательными»14.
Ихваны стали осуществлять набеги на Ирак и Кувейт. Англичане использовали против них авиацию.
«В 1927 г. Ибн Сауд больше не контролировал ситуацию полностью, – писал Глабб. – Ихваны после своих побед в Хиджазе упивались своим собственным могуществом и утверждали, что именно их боевая мощь сделала Ибн Сауда великим. Они понимали, что были основой его армии и у него не было регулярных сил, чтобы призвать их к порядку. Просто восстать против Ибн Сауда было трудно. Он был имамом, и религиозные чувства жителей Неджда были на его стороне. Но война против иракских мусульман-ренегатов, вдобавок находившихся под защитой англичан, считалась священной обязанностью. Ибн Сауд был виновен в том, что допускал религиозное небрежение и не хотел вступать в военные действия против врагов Аллаха. Недждийцы не были готовы, даже поддерживая Ибн Сауда, использовать силу, чтобы помешать ихванам нападать на Ирак. Но нападения на Ирак означали столкновение с Англией. Ибн Сауд не мог продемонстрировать другим государствам, что ему не подчиняются его подданные. Утверждать, что он полностью контролирует их, значило бы принимать на себя вину за набеги ихванов. Строительство форта в Эль-Бусайе дало ему предлог обвинить в агрессивных действиях Ирак. (Иракцы построили форт для полиции, но ихваны не видели разницы между военным и полицейским постом. – А. В.) Таким образом, Ирак становился как бы общим врагом – и Ибн Сауда, и ихванов»15. В этой ситуации король Хиджаза и Неджда по-прежнему предпочитал выжидать. В марте 1928 г. мутайры вернулись в свои хиджры после удачных газу.
Все лето 1928 г. Абдель Азиз оставался в Мекке, делая пропагандистские выпады против Ирака, видимо, чтобы убедить ихванов в своей ортодоксии. «Абдель Азиз чувствовал, что ему нужно было погасить фанатизм своих приверженцев, – писал Филби. – Он знал, что война с Ираком, с английскими войсками означала катастрофу. И он решил избежать этой войны любой ценой. Но он также чувствовал, что пустыня бурлила до такой степени, что была готова бросить ему вызов за соглашение с неверными»16.
Главные вожди ихванского восстания уже составляли планы раздела владений Абдель Азиза между собой. Фейсал Ааль Давиш должен был стать правителем Неджда, Ибн Биджад – Хиджаза, Ибн Хисляйн – Эль-Хасы. Одному из представителей бокового рода шаммаров, Нида ибн Нухайиру, обещали, что он станет правителем Хаиля, если к ним присоединится. Но он предпочел выжидать, оставаясь пока верным Абдель Азизу.
6 декабря 1928 г. Абдель Азиз собрал в Эр-Рияде новую общую ассамблею горожан и ихванов. На встрече присутствовали предводители ихванов, главы племен, знатные горожане, улемы. Вместе с сопровождавшими всего было более 800 человек. Но Фейсал Ааль Давиш, Ибн Биджад, Ибн Хисляйн не явились. Абдель Азиз долго говорил перед собравшимися, перечисляя свои достижения, включая объединение полуострова и установление мира. Затем он прибегнул к драматическому жесту, предложив свое отречение от трона на условии, что ассамблея изберет вместо него кого-нибудь из Ааль Саудов. Он заявил, что поддержит избранника ассамблеи.
Театральный жест с отречением подействовал на собравшихся, особенно на жителей городов и оазисов Неджда – традиционной опоры Ааль Саудов, которые хорошо понимали, что для них значил бы уход Абдель Азиза и торжество Фейсала Ааль Давиша и Ибн Биджада. Под крики «Мы не хотим другого султана!» практически все выразили поддержку его политике и «низложили» трех восставших предводителей ихванов. Хафиз Вахба отмечал, что ни один из собравшихся не считал, что Абдель Азиз отдаст трон без борьбы. Они хорошо знали, что он находился на вершине физической и интеллектуальной зрелости и был готов бороться против ихванов. Знать оазисов убедилась, что с ихванами надо кончать. Здесь сыграли роль и стремление защищать свои интересы против восставших кочевников, и традиционная неприязнь оседлых к бедуинам. Однако сложность состояла в том, что движение происходило в религиозной форме и три вождя ихванов утверждали, будто именно они подлинные защитники веры, а Абдель Азиз игнорирует веру в своих интересах, сотрудничая с неверными англичанами.
С началом сезона выпаса стало ясно, что гражданская война неизбежна, хотя многие племена заняли выжидательную позицию.
31 марта 1929 г. произошла битва Абдель Азиза с Ибн Биджадом и Фейсалом Ааль Давишем при Сибиле. Поставив в центре пехоту из жителей Неджда, а во главе отдельных колонн своих братьев или сыновей, король стал наступать. На его флангах было бедуинское ополчение. Битва была проиграна ихванами, а Фейсал Ааль Давиш тяжело ранен в живот. Сын короля Сауд с жителями Эр-Рияда и королевской гвардией прорвался вперед, чтобы закрепить победу. Реальную тяжесть боя вынесли на себе оседлые жители Неджда.
Тяжело раненный Фейсал бежал в Эль-Артавию и послал женщин из своей семьи, чтобы они, рыдая, умоляли Абдель Азиза пощадить его жизнь. Его привезли к Абдель Азизу, и тот простил его, когда увидел, в каком тот состоянии, и подумал, что долго он не проживет. Своему личному врачу он поручил заняться его лечением.
Что касается Ибн Биджада, то вскоре после битвы он сдался, был заключен вместе с другими руководителями восстания в тюрьму в Эль-Хасе, где они и умерли. Абдель Азиз приказал отобрать все оружие в хиджре Эль-Гатгат и разрушить само поселение.
Считая, что с восстанием ихванов покончено, король направился в Медину, а затем в Мекку, чтобы участвовать в паломничестве в мае – июне 1929 г.
Однако Фейсал Ааль Давиш выжил. Его боевой дух не был сломлен, он снова начал замышлять набеги на Ирак.
В этот момент Ибн Джилюви решил наказать непокорное племя аджманов. Его сын Фахд заманил Зейдана ибн Хисляйна на встречу в открытой пустыне и затем схватил его. Ихваны Ибн Хисляйна, обнаружив, что их вождь не вернулся, немедленно окружили лагерь Фахда, который приказал убить Зейдана и пять его спутников. В последующей битве Фахд был убит, а родственник Зейдана Наиф ибн Хисляйн, который сначала выступал против ихванов, переметнулся к восставшим. Английский политический агент в Кувейте Гарольд Диксон пишет, что в результате предательского убийства Зейдана бедуины Северо-Восточной Аравии настроились против Абдель Азиза, хотя он не нес за это ответственности.
Фейсал Ааль Давиш, решивший снова поднять знамя восстания, присоединился к аджманам, и в середине июля они перерезали дорогу Эр-Рияд – Хуфуф. Атайбы прервали связи между Хиджазом и Недждом.
В стране шла гражданская война. Повсюду убивали сборщиков налогов. Караванные пути Хиджаза, Неджда и Эль-Хасы стали ненадежными.
В июле 1929 г. король вернулся в Эр-Рияд с 200 автомобилями, чтобы использовать их против повстанцев. В Хиджазе он также договорился о покупке четырех итальянских аэропланов и разработал планы создания сети радиостанций в стране. Лишь в конце 1930 г. этот заказ был передан компании Маркони, а самолеты прибыли, когда в них уже не было нужды.
Большой удар Фейсалу Ааль Давишу был нанесен в сентябре, когда войско, возглавляемое Ибн Мусаидом, разгромило мутайров под командованием Узеййиза, сына Фейсала, и молодой военачальник вместе с цветом племени мутайр погиб. Через несколько дней Фейсалу было нанесено еще одно поражение. Часть племени атайба, связанная с ихванами, была разгромлена своими соплеменниками, преданными Абдель Азизу, которых поддержал отряд под командованием Ибн Лювая из Эль-Хурмы. Отряды ихванов рассеялись.
Наступал конец восстанию.
10 января 1930 г. Фейсал Ааль Давиш и другие лидеры ихванов сдались британским властям. Их перевезли самолетами в Басру. Абдель Азиз потребовал их выдачи. В его лагерь прибыла британская делегация, и после переговоров было достигнуто соглашение о выдаче королю лидеров ихванов. Король обещал сохранить им жизнь.
Фейсал умер 3 октября 1931 г. в тюремной яме. До своего смертного часа он сохранил твердость духа и скончался, пообещав защищать свое дело против Абдель Азиза на Страшном суде. Так окончилась жизнь Фейсала Ааль Давиша, одного из самых выдающихся вождей бедуинов и, может быть, последнего крупного представителя ушедшей эпохи.
20 февраля 1930 г. Абдель Азиз прибыл в Рас-Таннуру. На борту английского корабля состоялась его встреча с верховным комиссаром в Ираке Ф. Хамфрисом и королем Ирака Фейсалом. Во время трехдневной встречи короли обменивались упреками, но в конце концов общие интересы взяли верх, и они договорились заключить договор о дружбе и добрососедстве, который был подписан несколькими неделями позднее. Семья Хашимитов не забыла потери Мекки и Медины и унизительного поражения. Но требования реальной политики на время оказывались сильнее. Оба короля решили обменяться дипломатическими представительствами и взаимно уважать племена и территории, на которые распространялся их суверенитет.
Казалось бы, саудовский режим успешно решил свои внешние и внутренние проблемы и мог ожидать периода относительной стабильности. Но прежде чем она наступила, Абдель Азиз должен был пройти через два новых испытания – вооруженные выступления в Хиджазе и Асире и войну с Йеменом, которые, впрочем, не представляли собой серьезной угрозы для его власти.
В документах мы не нашли упоминаний о роли Фейсала в подавлении восстаний ихванов. Представляется, что Абдель Азиз намеренно оставил его в Хиджазе, чтобы там не произошло антиправительственных выступлений. Хиджаз весь период гражданской войны оставался надежным тылом, и даже прежде бунтующее племя харб участвовало в военных действиях против ихванов, может быть и с целью отомстить за их прежние жестокости.
19 декабря 1930 г. газета «Умм аль-кура» опубликовала сообщение о решении короля преобразовать Департамент внешних сношений в Министерство иностранных дел и назначить министром Фейсала, который теперь стал ответственным за внешнюю политику не только Хиджаза, но и всей страны. Показательно, что такое решение король принял еще до слияния Неджда и Хиджаза в одно государство.
Это поднимало статус Фейсала, но фактически руководство внешней политикой Абдель Азиз оставил в своих руках. Он опирался на своего секретаря, сирийца Юсуфа Ясина.
В январе 1932 г. Абдель Азиз издал «Закон о вакилях». Это была попытка создать правительство в канун объединения страны. Председателем совета вакилей был назначен Фейсал. Совет состоял из председателя и вакилей: иностранных дел, финансов, внутренних дел. Полномочия этого совета, скорее всего, были консультативными, а реальная власть находилась в руках короля и председателя совета, который в отсутствие короля исполнял его функции. Эмир Фейсал стал также министром внутренних дел, в его подчинение вошли департаменты здравоохранения, просвещения, почты и телеграфа, карантинной службы, полиция и муниципалитеты.
Два года подряд Неджд и Хиджаз поражала засуха. Гражданская война разорила страну. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. тяжело отразился на Аравии. Экспорт скота, кожи, фиников упал. Катастрофически уменьшилось паломничество. Казна была пуста. За импорт продовольствия нечем было платить. Не получая по многу месяцев жалованья, чиновники обирали жителей. Субсидии шейхам многих племен были прекращены. Начался голод.
Нужно было добыть деньги для укрепления вооруженных сил и выплаты субсидий племенам и жалованья чиновникам складывавшейся бюрократии. Тогда король и решил направить Фейсала, который официально стал его министром иностранных дел, в ряд стран Европы в надежде получить заем. Абдель Азизу нужен был млн фунтов стерлингов для покрытия текущих расходов и стабилизации финансовой ситуации. Фейсал должен был прощупать почву для сотрудничества и в других областях. Его главным советником в поездке был Фуад Хамза.
В Италии формальный глава государства король Виктор Эммануил дал в честь Фейсала обед. Но главной фигурой в стране был Муссолини. Он пригласил гостя на парад фашистской молодежи, длившийся три часа. Перед трибунами прошло примерно 50 тыс. человек. «Это было уже слишком. Любовь к показухе… – говорил сам Фейсал Муниру аль-Аджляни о своих впечатлениях. – Может быть, это было выражением комплекса неполноценности или способом угодить массам…»17
Италия наращивала свои пока что слабые военные мускулы и примеривалась к роли соперника Британской империи в бассейне Красного моря. Не беря на себя никаких политических обязательств, Фейсал договорился о подготовке саудовских летчиков в Италии и поставках итальянских самолетов. К этому времени фирма Маркони уже монтировала радиостанции в Хиджазе и Неджде.
Во Франции, куда он прибыл в мае, на этот раз вместо туристической компании Кука, опекавшей его в 1919 г., заботу взяло на себя Министерство иностранных дел. Последовал банкет у президента страны в Елисейском дворце, посещения воинских частей. Фейсал наблюдал и военные маневры под Версалем с участием бронемашин, танков, тяжелой артиллерии, и демонстрационные полеты военной авиации на аэродроме Бурже. Фейсал смотрел, запоминал, учился. Франция тогда была сильнейшей военной державой континентальной Западной Европы. Германия еще не начинала перевооружаться. Политические беседы касались паломничества мусульман из колоний и протекторатов Франции. Других интересов у Франции в Хиджазе и Неджде тогда не было.
Фейсал смог помолиться в парижской мечети.
Его пребывание в Париже омрачила тяжелейшая простуда, которую он подхватил, поднявшись на Эйфелеву башню. Его фотографию поместила французская газета «Журналь», сопроводив репортажем о посещении больного Фейсала в гостинице: «Его белое смугловатое лицо очень приятно и удивительно свежо. На нем выделяются блестящие красивые глаза, действительно, глаза газели»18.
Визит в Англию не принес каких-либо существенных результатов.
Мы не нашли какой-либо подробной информации о пребывании Фейсала в Германии, где нацисты были близки к захвату власти. Мы знаем лишь, что его надежда получить в Германии заем оказалась тщетной19.
А вот его пребывание в Польше, где с ним встречались и маршал Пилсудский, фактический диктатор страны, и президент страны Игнацы Мосьцицкий, дало неожиданный результат: Польша согласилась продать в долг некоторое количество оружия, в том числе пулеметов. Их и используют в войне с Йеменом, которая вспыхнет через два года. Видимо, за это оружие Саудовская Аравия так и не заплатила. По словам посла Польши в Эр-Рияде Адама Кулаха, он видел в городском музее образцы польского оружия тех лет, но документы о саудовско-польских отношениях в 1930-х гг. не сохранились20.
Из Варшавы специальный вагон повез эмира Фейсала и его сопровождающих в Москву. Он ехал в столицу Советского Союза со сложными чувствами. С одной стороны, он помнил, что именно СССР первым признал его отца королем Хиджаза. Были кое-какие противоречия по торговле, но российский керосин пользовался в Хиджазе хорошим спросом. Мощь СССР не вызывала сомнений, хотя официальный атеизм коммунистической идеологии был Фейсалу абсолютно чужд. Правда, стояла задача получить в Москве заем. Его прагматик-отец готов был найти базу сотрудничества с кем угодно, лишь бы облегчить финансовый кризис в стране, и Фейсал следовал его линии.
Для советского руководства этот визит высокопоставленного арабского лидера был первым в своем роде, и вице-короля Хиджаза приняли с надлежащей помпой и вниманием.
Накануне визита Фейсала король Абдель Азиз получил от Председателя ЦИК СССР М.И. Калинина послание, выполненное в подражание «цветистому» восточному стилю:
«Ваше Величество!
Пользуясь возвращением в Хиджаз по окончании отпуска чрезвычайного посланника и полномочного министра Незира Тюрякулова, я хочу подтвердить мои глубокие чувства уважения к Вашему Величеству и Вашему благородному народу.
Радостное известие о предстоящем посещении Москвы летом этого года Вашим благородным сыном Его Высочеством принцем Фейсалом является одним из счастливых проявлений дружбы, связывающей обе наши страны. В лице нашего уважаемого гостя мы будем иметь честь приветствовать также и Ваше Величество, главу дружественного нам государства.
Я убежден, что искренние отношения наших государств будут развиваться впредь в еще более прочных и отвечающих нашей дружбе формах и что с обеих сторон будет сделано все для осуществления высокой и соответствующей интересам наших стран задачи дальнейшего укрепления счастливо установившихся взаимоотношений […] Калинин»21.
На это письмо М.И. Калинина был получен следующий ответ короля:
«14 мая 1932 г. (8 мухаррама 1351 г.)
Ваше Превосходительство!
С чувством глубокого удовлетворения я получил Ваши приветствия, содержащиеся в любезном послании, которое Ваше Превосходительство направили мне через Его превосходительство чрезвычайного посланника и полномочного министра Вашего уважаемого правительства в нашей стране г-на Незира Тюрякулова. Я с благодарностью принимаю добрые пожелания, высказанные Вами в мой адрес и в адрес моего народа. Передаю Вам лично и народу Советских Республик уверения в моем самом высоком уважении.
Стремясь к укреплению дружественных отношений, существующих между нашими двумя странами, мы посылаем нашего сына эмира Фейсала с визитом к Вашему Превосходительству, в Вашу дружественную страну…
Абдель Азиз аль-Сауд»22.
29 мая 1932 г., в день прибытия Фейсала в Москву, официоз ЦИКа газета «Известия» опубликовала статью, посвященную советско-саудовским отношениям. Тон был дружественный, и собирание аравийских земель Абдель Азизом было названо «национально-освободительным движением».
Утром 29 мая Белорусский вокзал столицы был украшен советскими и саудовскими флагами. Видимо, первый раз в истории здесь развевалось знамя с надписью «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Аллаха». Эмира встречал весь второй эшелон советского политического, дипломатического и военного руководства. Здесь, как и впоследствии при посещении Ленинграда и Одессы, гремели оркестры, маршировал почетный караул, представлявший различные рода войск. Фейсал посетил заводы и воинские части, музеи, парки и театры. В ходе визита его заместитель Фуад Хамза не забывал себя, любимого. Он попросил советскую сторону подарить ему черно-бурую лисицу, что и было сделано. Что стоила такая мелочь! Ведь накануне визита СНК СССР (правительство) приняло постановление «об отпуске из резервного фонда СНК СССР Наркоминделу 100 тыс. рублей на расходы по приему наследного принца Хиджаза (так в тексте. – А. В.) Эмира Фейсала…»23.
Эмир Фейсал провел официальные переговоры со всеми советскими руководителями, кроме самого Сталина. Дружеский и вежливый тон характеризовал и обмен речами. Вот хотя бы то, что говорили М.И. Калинин и Фейсал на завтраке 29 мая 1932 г.
М.И. Калинин:
«Господин наместник и министр иностранных дел!
Я рад приветствовать приезд в Советский Союз высокого представителя дружественного нам государства – Хиджаза, Неджда и присоединенных областей и приветствовать в Вашем лице его главу – короля Абдель Азиза ибн Абдуррахмана аль-Фейсала аль-Сауда.
Отношения между нашими двумя странами в течение ряда лет носили весьма дружественный и вполне искренний характер, и Ваше посещение Советского Союза, несомненно, является одним из счастливых проявлений дружбы, связывающей наши обе страны.
Я с тем большим удовольствием приветствую Вас в столице Советского Союза, что в Вашем лице представлено правительство арабского народа, который сумел после мировой войны, благодаря мужественной и дальновидной политике его руководителей, завоевать и укрепить свою полную независимость, являющуюся необходимой предпосылкой для экономического и культурного развития страны.
Выражаю уверенность, что дружба между нашими государствами в полной степени отвечает интересам наших народов и их взаимному благу. Ваш приезд в Советский Союз, несомненно, будет способствовать дальнейшему укреплению этой дружбы.
Я прошу Вас передать мои наилучшие пожелания здоровья и благополучия королю Абдель Азизу ибн Абдуррахману альФейсалу аль-Сауду, и я горячо приветствую в Вашем лице высокого представителя дружественного нам государства и руководителя его внешней политики […]»24.
В ответной речи на завтраке принц Фейсал заявил:
«Господин Председатель!
Искренне благодарю Вас за слова приветствия, с которыми
Вы обратились ко мне по случаю моего прибытия в Вашу страну. Я также благодарю Вас, господин Председатель, и других государственных деятелей за оказанную мне почетную встречу.
Я счастлив посетить Советский Союз, который связывают со страной моего повелителя Его Величества короля крепчайшие узы дружбы. Нет сомнений, что это посещение послужит еще большему укреплению их дружбы в будущем. Личный же контакт, я надеюсь, будет содействовать разрешению интересующих обе стороны вопросов в духе дружбы и искренности.
Считаю также необходимым поблагодарить Вас, господин Председатель, за те добрые чувства, которые Вы так любезно выразили по отношению к Его Величеству королю, его стране и его народу. Равным образом я с великой радостью воспринял Ваше заявление о том, что Вы с большим вниманием следите за экономическим и культурным прогрессом нашей страны, и я прошу Вас уделять нам в будущем еще больше внимания, что принесет пользу обеим сторонам.
Прекрасный прием, оказанный мне в Вашей стране, и теплое отношение ко мне и к сопровождающим меня лицам произвели на меня наилучшее впечатление, и я уверен, что это посещение будет содействовать укреплению наших отношений и о нем останутся лучшие воспоминания […]»25.
Фейсал на переговорах ставил вопрос о займе или хотя бы о поставках товаров в кредит. Но Советский Союз, поглощенный собственной индустриализацией, накануне страшного голода на Украине, в Казахстане, в южных районах собственно России не имел реальных интересов на Аравийском полуострове. Хиджаз еще не расплатился за поставленный керосин. Незначительные торговые проблемы, связанные с условиями торговли советскими товарами, были решены.
Делегация отбыла на пароходе из Одессы в Стамбул. Фейсалу было о чем поразмыслить.
Он увидел великое государство. Его встречали доброжелательно и приветливо. Но ему было ясно, что его страну хотят использовать как антибританскую силу, почти ничего не предлагая взамен. Он прочитал много в высшей степени критических материалов о коммунистическом режиме в СССР. Чему-то он верил, чему-то нет, но атеизм Советского Союза для глубоко и искренне верующего Фейсала стал как бы психологической преградой на пути будущего потенциального сотрудничества.
Остановимся на мгновение, чтобы уточнить дальнейший маршрут Фейсала. Ведь одни источники категорически утверждают, что он покинул Советский Союз через Одессу, другие – столь же категорично – называют Баку как конечный пункт его пребывания в СССР. Оказывается, правы и те и другие. Официальный визит Фейсала завершился в Одессе. В Турции он провел около трех недель, на итальянском пароходе «Палестина» отплыл из Стамбула в Батуми, где его ожидал специальный салон-вагон. Но это был просто транзит через дружественную страну – без оркестров и речей. Через Тбилиси (Тифлис) он прибыл в Баку и в тот же день отправился морем в иранский порт Пехлеви. Правда, Фуад-бей Хамза не забыл намекнуть представителям советского НКИДа (то есть МИДа), что хотел бы получить «в качестве сувенира» черную икру, и ему были вручены десять полукилограммовых банок икры высшего сорта26.
Во время визита в Турцию никаких крупных политических проблем в Анкаре не обсуждалось. Мустафа Кемаль (с 1934 г. – Ататюрк) был поглощен задачей построить новую Турцию, и ему было мало дела до бывших османских владений в Аравии. Но вице-короля Хиджаза, где лежат Мекка и Медина, и министра иностранных дел самого крупного аравийского государства приняли с максимальной помпой. На официальном обеде, который дал президент Турции, присутствовали все члены правительства, а блюда подавались на золотой посуде с вензелями османского султана. Фейсал посетил личную ферму Мустафы Кемаля, а затем провел переговоры с Исмет-пашой (с 1934 г. – Инёню) – вторым по весу турецким лидером, главой правительства в Анкаре. Фейсал договорился, что его дальних родственников Сунайянов, живших в Стамбуле, отпустят совершить хадж в Мекку.
Возможно, наблюдательный Фейсал заметил, что в новой, растущей столице Турции не было построено ни одной новой мечети.
Легенда утверждает, что в Стамбуле он якобы увидел свою будущую жену Иффат. Но дети Иффат уверяют, что встреча произошла в Джидде, куда семейство Сунайян прибыло на хадж. Трудно сказать, кто в этом деле прав. Ожидая пароход, чтобы отправиться в Батуми, Фейсал провел в Стамбуле примерно пять дней. Обедал он вместе с сопровождавшим его начальником протокола советского НКИДа. Но по вечерам надевал «гражданскую» (европейскую) одежду, отправлялся ужинать вместе с членами делегации. Никаких свидетельств о его встрече с семьей Сунайян у нас нет, хотя не исключено, что они могли видеться и он уже тогда «положил глаз» на красавицу Иффат. Иначе с какой стати он приедет лично встречать семейство Сунайян, когда они сойдут на берег в Джидде?
…Визит в Тегеран был достаточно бесцветным.
По пути домой эмир Фейсал встретился в Багдаде с королем Ирака Фейсалом ибн Хусейном, с которым в Париже в 1919 г. так неудачно «поговорил» его советник Ахмед ибн Сунайян. Старая вражда между Ааль Саудами и Хашимитами не была забыта, но прагматизм взял верх. Эмир и король обменялись вежливыми речами.
Через Кувейт Фейсал вернулся в Неджд. Его полугодичная поездка не принесла главного, на что рассчитывал Абдель Азиз, – денег. Но кое-какие результаты были: удалось договориться о поставках самолетов и подготовке летчиков в Италии, приобрести оружие в Польше, урегулировать торговые проблемы с СССР.