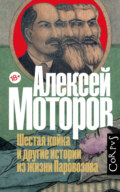Алексей Моторов
Тот самый Паровозов
На следующий день мы жарко спорили, кто кому накостыляет, Брюс Ли Сильвестру Сталлоне или же наоборот. А иногда, отдыхая от фильмов, я играл с Сетраком и его друзьями в карты, в «буру» или «козла».
Раз в неделю мы предпринимали дальние вылазки, например, Сетрак отвез нас на знаменитое озеро Рица и по блату устроил экскурсию в новоафонские пещеры, где Роме больше самих пещер понравился маленький поезд, который ходил по тоннелю, настоящее мини-метро.
Мы действительно были у него в гостях, с нас никто не брал деньги ни за жилье, ни за еду. Но, чтобы не быть совсем уж нахлебниками, я каждый день старался делать Сетраку массаж, а Лена помогала Майрам по хозяйству.
Мне невольно доводилось подслушивать, пока я курил на балконе, как Майрам, разбирая с Леной многочисленные вещи, говорила:
– Лена-джан, скажи Сетраку: «Сетрак, почему не одеваешь что тебе мама купила? Почему брюки не носишь, которые шестьдесят рублей стоят?»
Отпуск подходил к концу, почти все деньги, которые были с собой, остались при нас. В последний день мы все-таки плюнули на условности, взяли и сфотографировались на пляже. Радуясь, что наконец заполучил таких лопухов, фотограф заставлял нашу троицу принимать различные позы, менял композицию и зафотографировал до исступления, аж на целых сорок восемь рублей.
Мы начисто забыли про этот эпизод, но где-то в конце октября, когда уже выпал снег, по почте в Москву пришел туго набитый конверт.
Там было два десятка фотографий, где мы стоим на фоне моря, и на каждой в правом углу сложной вязью написано «Сухуми-86».
У Сетрака в гостях мы провели ровно месяц. Это был наш первый полноценный летний отпуск, не омраченный очередным провалом в институт. Да и вообще настолько далеко в моем сознании отодвинулись героические медицинские будни, будто мне все это когда-то приснилось. В последний вечер, когда я курил на балконе и любовался звездами под пение цикад, то с неподдельным удивлением понял вдруг, что меня опять ждет тяжелая суточная работа, снова будет кровь, грязь и каталки с мертвецами.
Спасибо тебе, Сетрак Айказович, что ты хоть на время дал мне это забыть.
Осень
Андрюша Орликов решил завязать с хлопотной жизнью реаниматолога, поступив в клиническую ординатуру при Кардиоцентре. В конце августа он накатал заявление об увольнении и был таков, а мне сразу стало одиноко. В принципе, Андрюша все сделал правильно. Кардиолог – специальность востребованная, не скучная, да и работа не на износ.
В реанимацию мы пришли с ним в один год и в один месяц. В первый раз я увидел его во время пятиминутки в ординаторской, где он сидел на диване, румяный, длинноволосый, похожий больше на рок-музыканта, чем на врача, и с очень серьезным видом пытался незаметно для окружающих жевать резинку. Наряжен он был в какой-то явно импортный халат, из нагрудного кармана которого торчала ручка «паркер». Его почти сразу поставили дневным доктором в первый блок, поэтому мы виделись с ним достаточно часто.
Мое пристальное внимание Андрюша привлек тем, что после одной совместно произведенной трахеотомии он в протокол операции в качестве ассистента вписал меня. Обычно никто этого не делал, потому что медбрат никак не может числиться ассистентом на операции. Так я впервые попал в историю.
Мы стали частенько болтать о разных вещах во время перекуров на эстакаде. Летом – что хорошо бы осенью сходить за грибами. Осенью – что нужно зимой покататься на лыжах.
Зимой – что неплохо бы взять короткий отпуск да и махнуть весной в Таллин. Весной сокрушались о том, что из-за плотного графика нам ничего не удалось совершить. И с легким сердцем переносили задуманное на следующий год. Ведь у нас вся жизнь впереди.
К тесному общению мы приступили сразу после памятного празднования Нового, 1983 года, когда мы четверо – Витя Волохов, Ваня Рюриков, Андрей Орликов и я, – завершив первого января праздничную вахту, вылезли на свет божий из подвала, словно четыре танкиста, с бодуна потерявшие своего Шарика. В подвал после дежурства нас заманил Витя Волохов и, убеждая в необходимости опохмелки, заставил распить из горла бутылку теплой водки, от которой всех сразу стало тошнить. А выбирались мы на улицу через морг, все почему-то в побелке, в скособоченных шапках и болтающихся по земле шарфах.
В морге посреди траурного зала стояла наряженная елка, вокруг которой водили нестройный хоровод похабно накрашенные девицы. Увидев нас, они хриплыми голосами стали спрашивать санитаров, что это еще за алкаши привалили с утра пораньше.
Получив ответ, что мы дежурная реанимационная бригада, барышни чрезвычайно заинтересовались нашей компанией и стали наперебой приглашать на белый танец. Танцевать с этими снегурочками нам не хотелось совсем, и мы попросту сбежали. Минут десять еще стояли на улице около морга, обнимались, целовались, никак не могли расстаться.
Андрюше нравилось обсуждать книги, причем, как правило, американских авторов. Самыми любимыми у него были те произведения, где главный герой неделю квасит, а потом неделю дебоширит. Особняком стоял Сэлинджер. Хоть герои и ведут там себя сравнительно пристойно, но этот автор почитался им выше прочих.
Еще он рассказывал о фильмах, про которые мало кто слышал и совсем мало кто видел. Ему доводилось ходить на закрытые просмотры, а летом посещать Московский кинофестиваль. Судя по всему, фильмы там демонстрировались хорошие, во всяком случае, такие имена, как Феллини, Шаброль и Бергман, мелькали постоянно. А некоторые, не такие серьезные, Андрюша часто пересказывал во всех деталях. До сих пор помню его интерпретацию фильма «Око за око» с Чаком Норрисом. Оригинал, который я посмотрел двумя годами позже, показался мне куда менее динамичным.
Еще мы вспоминали наши детство-отрочество-юность, то есть драки, пьянки-гулянки и прочие приключения. При этом Андрюша вставлял в свои рассказы какое-то невероятное количество простонародных прибауток, будто его растила деревенская няня.
Жил он рядом с метро «Университет» в так называемом «преподавательском» доме. У него была потрясающая библиотека, и ни разу не было такого, чтобы, зайдя к нему в гости, я возвращался домой без книжки.
Иногда после легких дежурств мы устраивали настоящую культурную программу. Особенно было здорово, когда стояло теплое время года. Тогда мы садились на метро, доезжали до станции «Площадь Свердлова» и вдоль ГУМа по Красной площади спускались к Москве-реке.
Там мы покупали билеты в кинотеатре «Зарядье», если, конечно, показывали стоящий фильм, и приобщались к искусству. Если фильм шел барахляный, что случалось часто, мы сразу приступали ко второму действию. Перебегали дорогу и шли на пристань. Туда причаливали речные трамвайчики, которые ходили каждые двадцать минут.
Мы грузились на кораблик, брали в буфете по бутылке пива, усаживались на корму и отправлялись в плавание.
Я очень любил эти круизы. Сидишь с другом, пьешь пиво, болтаешь, а мимо справа и слева проплывает город, солнце светит, ветерок обдувает – красота!
Выходили всегда у Парка культуры и, не тратя времени, шли в «Пльзень», здоровенную пивнуху. Наливали в автомате по полной кружке, заказывали большую тарелку креветок и вели бесконечные умные разговоры, прерываясь лишь на то, чтобы сбегать налить еще.
В пивной мы торчали часа два, после чего не спеша проходили через весь парк с аттракционами, лишь иногда останавливаясь, чтобы пострелять в тире.
Затем долго брели Нескучным садом, болтали, курили, приближаясь к заветной цели – живому уголку недалеко от Окружной железной дороги. Там в загончике жил пони, настоящий, маленький, с теплыми губами. Его сторожила какая-то ведьма, которая время от времени выбегала из своего сарая и с воплями била пони по крупу дубьем.
Ну, тут у каждого свое проявление любви к нашим меньшим братьям. Мы же с Андрюшей, чтобы не разбудить эту кикимору, тихим чмоканьем подзывали пони к ограде, гладили по холке, кормили леденцами и сигаретами.
Далее наш путь лежал через железнодорожный мост, тот самый, на котором в новом, модном кинофильме «ТАСС уполномочен заявить…» наши отважные рыцари плаща и кинжала скрутили подлого американского шпиона.
Заканчивалось путешествие обычно у вестибюля станции метро «Спортивная». Если оставались деньги, мы покупали в палатке по бутылке пепси-колы, если нет, то просто стояли и курили, разглядывая толпу. Народ тоже пил пепси, курил и общался. Как правило, публика была вызывающе нарядная, и мы глазели на модную в этом году одежду, обсуждая детали.
Потом каждый ехал к себе домой. Я – через весь город в Тушино, а Андрюша – до следующей остановки. Ну тут он всегда был хитрецом. Не помню, чтобы хоть одна прогулка завершилась вдали от его жилища.
Мне кажется, что если с ним посидеть в мюнхенском «Августинере», то потом, выбираясь переулками, незаметно, за разговорами, через какое-то время все равно попадешь на Ломоносовский проспект.
+ + +
В октябре я решил, что пора уходить. Пошел пятый год моей работы в реанимации. Всему, чему я хотел здесь научиться, я давно научился. Не существовало такой манипуляции врача-реаниматолога, которая не была бы мной освоена до автоматизма. От тоски я даже овладел люмбальной пункцией и скоро стал делать ее не хуже больничных неврологов. Несколько раз мне удавалось уговорить наших хирургов, и они подпольно брали меня ассистентом на большие операции.
Но без обучения в институте во всем этом не было особого смысла. Так, мелкий, ничего не меняющий штрих, доказательство самому себе. Когда-то, только поступив в училище, я опасался – а вдруг не выдержу вида крови? Вдруг не смогу сделать руками элементарные вещи? Поэтому, чтобы себя проверить, напросился на первой же практике, уже в середине сентября, работать санитаром в операционную.
Помню, как первый раз стоял у стола, где лежал молодой мужик, которому готовились произвести аппендэктомию, и страшно боялся, что, когда его начнут резать, я грохнусь в обморок. Не грохнулся. Даже потом потрогал пальцем ампутированный отросток. Ничего особенного. И тогда же остался с хирургической бригадой в ночь, они гнали меня домой, но я их все-таки уломал. А уже под утро упросил сестру в торакальном отделении, и она позволила сделать мой первый укол. Руки сразу стали чужие и ватные, ноги подкосились, во рту пересохло, а игла никак не хотела протыкать кожу. Но кое-как я уколол, и сразу стало легче. А когда после операций мне, как санитару, доверяли мыть кучу окровавленных инструментов, от счастья петь хотелось.
Сейчас я уже счет потерял самостоятельно сделанным трахеостомам, интубациям, не говоря о прочих мелочах. Но так получалось, что на этом моя большая медицинская мечта завершилась. Оставаться в реанимации дальше уже не было никакого смысла.
Как прелюдия перед поступлением в институт пятилетняя работа медбратом – это слишком, а как дело на всю жизнь – точно не для меня.
В последнее время даже традиционные беседы во время перекуров стали меня изводить. Особенно когда приходилось слушать старую сестринскую гвардию. Десять лет назад, когда открывали больницу, медсестер набирали из глухой провинции, заселяя их в общежития. Работали они не за страх, а за совесть, правда с какой-то унылой обреченностью, а разговаривали всегда про неустроенность личной жизни, про уборку картошки в родной деревне, про хорошее кино «Вечный зов» и про цыгана по имени Будулай. Раньше мне было как-то все равно, а теперь я сразу чесаться начинал.
В общем, пора было сваливать.
А вот для меня ли карьера массажиста, честно говоря, я не знал. Массажист в любом случае – что-то типа парикмахера, к которым с большим предубеждением относилась наша заведующая Лидия Васильевна.
Но может быть, именно на этом поприще я совершу то самое важное, что предначертано мне свыше? Хотя вряд ли. Что за предназначение – тереть чужие спины? Ладно, жизнь покажет.
Мой приятель Вовка решил уйти из клиники и вообще из медицины. Хороший знакомый его отца занимал в ту пору должность ни много ни мало директора Ваганьковского кладбища. Подивившись, как это молодой парень может жить на смешную сумму, которая в месяц со всеми «левыми» не дотягивала даже до тысячи, румяный и довольный жизнью директор столичного погоста, вдоволь отсмеявшись, предложил Вовке бросать к чертям такой альтруизм и пообещал устроить в бетонный цех при кладбище, который изготавливал цветники на могилы. Оклад был мизерный, но «левые» были совсем другие и сулили большие жизненные перспективы.
Прагматичный Вовка с восторгом согласился. Я было выразил легкое недоумение: уходить из клиники и становиться кладбищенским ханыгой, пусть и за большие деньги, казалось уж больно радикальным. Да и общение с коллегами по знаменитому ритуальному учреждению представлялось мне делом весьма специфическим.
При первой же возможности я поделился своими сомнениями с Вовкой, будучи у него в гостях.
– Леша, мужик прежде всего должен зарабатывать бабки! – раздраженно и назидательно бросила Вовкина жена, колдуя у плиты. – А нравится работа или не нравится – вообще не разговор!
И посмотрела на меня с нескрываемой жалостью. Дискуссия на этом сразу и завершилась.
В общем, в Клинике нервных болезней освободилась ставка массажиста. Меня там запомнили и, когда я пришел интересоваться местом, с радостью мне его предоставили. В принципе, уже можно было с октября выходить туда на работу, но я оттягивал, как говорится, до последнего.
Только сейчас я со всей очевидностью понял, как же будет тяжело уходить из реанимации. Там было все такое знакомое, родное, понятное. И как я, интересно, теперь буду жить? По ночам дома спать, все субботы и воскресенья опять же дома проводить. Работать только на ставку, с больными, которые в сознании, из которых не будут торчать дренажи и трубки…
Да мне к такому сто лет привыкать придется, если вообще привыкну. Я даже дома к телефону подхожу: «Реанимация слушает!»
По этой причине я оставил себе еще пару месяцев реанимационных дежурств для моральной адаптации к новым для себя условиям жизни.
А оформление в клинику мне посоветовали провести через систему перевода. В то время такое практиковалось. Если работник переходил в профильное учреждение, ему туда устраивали перевод. Тогда и статистика не портилась, и отпуск сохранялся. Любо-дорого. Договорились, что я выйду на новую работу в понедельник первого декабря.
Подходящий срок
Конечно, известие о моем скором уходе никакой особой радости в отделении не вызвало. Людей у нас всегда не хватало, но этой осенью две медсестры ушли в декрет, а еще две, причем обе Тани, уволились. Одна из этих Тань была Таня Богданкина, она вышла замуж за парня из Зеленограда, и ездить на работу ей стало далековато. А вот вторая Таня – это был особый экземпляр. Ее увольнению, вернее переводу в отделение стерилизации, радовались все, как малые дети.
Дебилы бывают разные, хотя и обладают некоторыми общими чертами. У всех дебилов, если кто не в курсе, слабо выражена способность к абстрактному мышлению. Вот почему они могут заниматься только чем-то конкретным, например клеить коробочки для мармелада, а поставить, скажем, кукольный спектакль они не в состоянии.
Наша Таня принадлежала к разряду дебилов злобно-упрямых, самых агрессивных, мстительных и необучаемых. Как она окончила медицинское училище, не совсем понятно, видимо, там просто поленились ее выпереть. А в больнице кадровики никогда не занимались такими глупостями, как собеседование. Здесь же не райком комсомола, не редакция газеты, не «почтовый ящик», а простая больница. Где персоналу доверены жизнь и здоровье пациентов. Сущие пустяки, одним словом.
Все, кто отработал хоть сутки с Таней, начинали вопить, что такого они еще не видели. Даже знаменитую Валю Баранкину и ту вспоминали с теплотой.
Давно уволенная к тому времени Валя Баранкина была крупной девушкой из деревенских. Она являлась ярким представителем дебилов апатично-заторможенных, хотя у нее и случались приступы вялой активности.
Периодически Валя начинала переживать за дело, ей хотелось как лучше, о чем она лениво размышляла – как правило, вслух.
Идет, к примеру, утренняя конференция. Суходольская, по своему обыкновению, спрашивает под занавес, есть ли у кого вопросы. Тут Валя тяжело поднимается с места, вздыхает и говорит, что нужно поменять все иглы для подключичной пункции в «шоковом» зале.
– Зачем, Валя? – удивлялась Лидия Васильевна. – Зачем менять все иглы, они новые, вполне пригодные!
– Затем, Лидия Васильевна, – густым басом отвечала Баранкина, – что доктор Мазурок по часу ковыряется, никак вену найти не может, никуда эти иглы не годятся!
Все, конечно, радостно начинали переглядываться, а бедный Мазурок краснел и опускал голову.
Подходит как-то Валентина к нашему врачу-лаборанту Елене Гаркалиной и спрашивает:
– Елена Николаевна, а как так получилось, что Андрей Владимирович, такой красивый мужчина, взял да на вас женился?
Андрей Владимирович работал в нашей больнице травматологом и правда был красавцем-брюнетом, вдобавок с бородой.
– Ты не поверишь, Валюша, – посмотрев на Баранкину поверх очков, ответила Гаркалина, – я к тому же на пять лет его старше!
– На пять? – схватившись за сердце, выдохнула Валя. – Быть того не может!
– Я тебе больше скажу, – улыбнувшись, продолжала Елена Николаевна, – он меня еще и с ребенком взял!
Валя окаменела, постояла с минуту, потом заплакала навзрыд и бросилась прочь.
Оказалось, что вопросы семьи и брака занимали Валентину не на шутку. Прошло какое-то время, и она опять пришла в лабораторию. Полагая, видимо, что чистая лабораторная работа делает чистыми людей и их помыслы. На этот раз Валя решила проконсультироваться у Элеоноры Александровны, самой эрудированной сотрудницы нашего отделения, ярой к тому же антисоветчицы.
На дежурствах Элеонора то и дело пыталась апеллировать к общечеловеческим ценностям, но почти всегда безрезультатно.
– Ребята, ну как же вы можете так говорить! – в отчаянии взывала она к нашим докторам. – Ведь только изверги могут пассажирские самолеты сбивать. Там же люди, ни в чем не повинные!
Доктора пожимали плечами, одна часть искренне не понимала, чего уж так кипятиться, а другая полностью одобряла геройскую атаку нашего перехватчика на южнокорейский «боинг».
– Нет, Алеша, эта страна скоро развалится! – убеждала меня Элеонора, когда я заходил к ней в кабинет отвести душу. – Смотри, следующий год уже оруэлловский – восемьдесят четвертый! Что они теперь задумали? С Америкой повоевать? Так ведь просрут за три дня!
Мне-то казалось, что советская власть будет над всеми глумиться по крайней мере еще лет сто. В стремлении переубедить меня Элеонора уже на следующее дежурство приносила статью Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?».
– Алеша, еще лет семь, не больше. Попомни мои слова!
Элеонора Александровна была замужем за выдающимся математиком Владимиром Арнольдом. Тогда же, в начале восьмидесятых, ему присудили шведскую премию Крафорда, такой аналог Нобелевской для обделенных Нобелем математиков.
Нужно ли говорить, что это возмутило всю прогрессивную общественность СССР. Премии от лицемерных капиталистов должны получать люди надежные, проверенные, с четкой партийной позицией, типа Шолохова, а не какой-то там Арнольд. Мало ему Ленинской премии, что ли? А потом, кто его знает, вдруг поедет в Швецию да и не вернется? В конце концов было принято взвешенное решение: хочет – пусть получает свою премию, но за кордон его не выпустим. Посему вручение состоялось в Москве, в посольстве Швеции. По окончании торжественной процедуры чрезвычайный и полномочный посол поинтересовался по протоколу, не желает ли госпожа Арнольд что-либо передать ее величеству шведской королеве.
Элеонора Александровна всплеснула руками:
– Да почему же меня никто не предупредил? Ведь у нас на даче в этом году такая вишня уродилась! Знать бы заранее, я бы баночку варенья передала!
Вот к ней-то и заявилась Валя Баранкина с целью найти ответы на мучающие ее вопросы.
– Элеонора Александровна! – торжественно начала Валя. – У меня к вам серьезный личный разговор!
Элеонора Александровна, как и многие интеллигенты высшей пробы, пришла в неописуемые волнение и восторг, свойственные утонченным натурам, когда к ним обращаются люди простые, вот такие, как Валя.
– Конечно, Валечка! – воскликнула Элеонора, усаживая упирающуюся медсестру на диван. – Говори, я вся внимание!
– Элеонора Александровна, как вы считаете, – зардевшись, начала Валя, – может ли незамужняя девушка жить половой жизнью?
Элеонора придвинулась к ней поближе и доверительно взяла Валю за руки.
– Валечка! – проникновенно сказала она. – Самое главное между мужчиной и женщиной – это чувства! И если имеет место, не побоимся этого слова, любовь, то, безусловно, половая жизнь будет гармоничным и естественным дополнением!
Валя Баранкина вскочила как ошпаренная, своим большим телом задев бедную Элеонору, которая отлетела к стенке.
– Я… я вас считала порядочной женщиной!!! – заорала она перепуганной насмерть Элеоноре. – А вы такая же блядь, как и все!!!
И, вылетев стремглав из кабинета, со всей мочи жахнула дверью, обрушив полку с реактивами.
Короче говоря, Валя Баранкина была хоть и олигофренкой, но милой и забавной. Таких в каждом большом коллективе – воз и маленькая тележка.
Над новенькой медсестрой Таней никто не смеялся. Всем было страшно и за себя, и особенно – за больных. Парадокс ситуации заключался в том, что уволить за слабоумие в то время не представлялось возможным. Да и сейчас наверняка нет такой статьи. Считается, вероятно, что если у человека есть диплом, то и мозги к нему прилагаются автоматически. Какая наивность!
Внешне она походила на неандертальца, ту промежуточную ступень эволюции, что находится между питекантропом и кроманьонцем. Вернее, раньше так считали, а теперь появились неопровержимые доказательства самостоятельности этого вида.
Вот такая была и Таня. Приземистая, коренастая, с короткими кривыми ногами, с длинными, ниже колен, руками, узким лбом, маленькими злыми глазками и тяжелой челюстью. Другими словами – красавица. И нрав у нее был кроткий, под стать внешности, сама доброта.
– Сестренка, дорогая, сделай укольчик, сил нет терпеть! – стонет в блоке больной. – Болит очень!
– Какой еще тебе укольчик! – рявкала сестренка, раскачиваясь на стуле и ковыряя в носу. – Да на тебе пахать можно, ишь, разнылся!
– Во, понаписали, охренели совсем! – изучая листы назначений, шумно скребла в затылке Танюша. – Охота была лекарства переводить, все равно половина окочурится!
– Дочка, знобит меня, крови много потерял! – просит Таню очередной бедняга. – Накрой одеялом, видишь, как трясет!
– А ты не трясись! – остроумно отвечала дочка. – На вас на всех одеял не напасешься, не в гостинице!
Наверное, Танин предок-неандерталец был более гуманным существом.
Она по складам читала назначения, не могла запомнить ни одного из названий лекарств, напрочь не понимала разницы между миллилитром и миллиграммом и никогда не слышала о группах крови.
За ней следили вовсю, старались ни на минуту не упускать ее из поля зрения. Не дай бог что случится – всех посадят!
Ходили к главной сестре больницы Маргарите Николаевне, валялись у нее в ногах, та приходила, беседовала с нашей девочкой, вздыхала, с сочувствием разводила руками и повторяла в который раз: «Молодого специалиста уволить не имеем права!» Вот так причудливо выглядит подчас основной принцип великого Гиппократа: «Не навреди!»
Но в сентябре все узнали, что Таня беременна. Это было известие почище, чем очередное сообщение о подорожании продуктов первой необходимости.
Всех занимал один вопрос: кто же он, отважный добрый молодец, что покусился на нашу нимфу?
Сразу же все начали приставать к Кочеткову – тот действительно старался не обходить вниманием никого из новеньких сестер, – но в ответ на скабрезные вопросы по поводу Тани Андрей Андреевич изображал на лице такой неподдельный ужас, что от него скоро все отстали.
А тут и мама Танина заявилась поговорить о судьбе дочки с Лидией Васильевной. Одного взгляда на эту скромную женщину было достаточно, чтобы убедить самых отъявленных скептиков в том, что генетика – это все-таки наука. Та же Таня, только лет на двадцать старше и, как ни странно, добрее. Видимо, злобный характер достался нашей красавице от неизвестного папаши.
Танина мама решила склонить Суходольскую к содействию по поводу аборта, но Лидия Васильевна поняла, что беременность – единственная возможность сплавить Таню из отделения, и поэтому стояла насмерть на страже интересов материнства.
У себя в кабинете она засыпала маму с дочкой медицинскими терминами, и те вскоре сдались.
– Будем рожать, доча! – с просветленным лицом произнесла мама. – Ничо, справимся, воспитаем! В советской ж стране живем!
– Ага! – ответила Таня, она сидела в уголке, раскачиваясь, по обыкновению, на стуле и устремив мрачный взор в потолок. – Справимся, делов-то!
Тут Лидия Васильевна дала волю своему женскому любопытству. Кроме того, она еще и администратор, а вдруг в нашем отделении грех случился, а вдруг, чем черт не шутит, все тот же Кочетков? Или другой какой, тайный чувственный диверсант? Нужно же к такому индивидууму вовремя меры принять, изолировать, в конце концов!
– Скажите, – осторожно начала заведующая, обращаясь к маме, – а вы знаете, кто отец?
– Знаем, конечно! – охотно поддержав светскую беседу, кивнула та. – Это Олежка, сосед напротив. Хороший мальчик, в училище сейчас учится военном, в другом городе, вот летом в отпуск приходил, тут у них с Танюхой и сладилось! Он сам-то и не знает, чё учудил!
Да… совсем оголодал курсантик на казенных харчах, ну да бог ему судья!
– Так вот вы ему напишите, обрадуйте! – радостно, оттого что тень не ляжет на вверенное отделение, начала развивать мысль Суходольская. – Может, он не откажется от ребенка. Может… – тут Лидия Васильевна зажмурилась, стараясь не смотреть на Таню, – может, он даже женится!!!
Тут Таня, которая продолжала раскачиваться, замерла на мгновение и, бросив ковырять в носу, произнесла своим низким и грубым голосом:
– Да и не он отец вовсе!!! – и снова закачалась.
– А кто, Таня? – совершенно обалдев от эдакого поворота, изумилась Суходольская. – Ты прости меня, пожалуйста, у тебя что, еще с кем было?
Тут Лидии Васильевне стало немного страшно, а вдруг сейчас Таня возьмет и скажет: «А чё такого, было, с Юрием Яковлевичем пару раз!»
– Я вам чё, Лидия Васильевна, шалава какая? – отозвалась Таня. – Я чё, по-вашему, со всеми без разбора? Просто тут мне это, как его, на УЗИ сказали, что срок десять недель, а я точно помню, у нас это самое девять недель назад было! Причем один раз только! Видите, по сроку не подходит!!!
Суходольская изо всех сил держалась, чтобы не заржать, схватившись за край стола.
И уже когда она выпроваживала их из кабинета, Таня обернулась и с сомнением покачала головой:
– А по сроку-то не подходит!!!
А вот мой срок неумолимо подходил.
В начале ноября я еще раз съездил в Клинику нервных болезней для завершения необходимых бюрократических процедур. Мне показали мой шкафчик в раздевалке, я подписал кой-какие бумажки, оставалось завизировать их в отделе кадров, который находился совсем в другом здании, рядом с Новодевичьим монастырем. Провожать меня туда вызвался сам заведующий отделением Борис Львович.
Погода стояла необычно солнечная для конца осени, поэтому, чем ждать троллейбуса, мы решили пройтись пешком. Лучше бы нам этого не делать. Потому что, не успев дойти до посольства Вьетнама, Борис Львович поскользнулся в какой-то дико грязной и подозрительно вонючей луже и упал в нее навзничь, как подстреленный. Я даже подхватить его не успел. Хорошо еще, что все обошлось без травм.
Борис Львович смущенно матерился, а я помогал оттирать ему пальто газетой «Социалистическая индустрия», которую содрал со стенда. Посольский милиционер, несущий свою вахту, с большим интересом смотрел в нашу сторону.
Потом все-таки решено было вернуться в клинику, надеть вместо перемазанного пальто белый халат и заодно меня от дерьма отмыть. А то, чего доброго, за ассенизаторов примут.
Вот черт, плохая примета возвращаться, дороги не будет! Правда, вроде я не суеверный. Да и дерьмо, если ничего не путаю, к деньгам. Деньги – это хорошо. Их у меня скоро будет целая куча. Они всю мою унылую жизнь изменят. И я сам наконец изменюсь. Не исключено, что в лучшую сторону.
Ерунда это все, что деньги портят. Не портят, просто дают возможность раскрыться. Да у меня, если хотите знать, уже были большие деньги. Огромные. Я в буквальном смысле спал на мешке с деньгами. И окружающие никаких во мне негативных перемен не заметили. Они, честно говоря, вообще мало чего замечали.