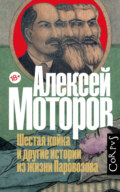Алексей Моторов
Тот самый Паровозов
Лирическое отступление № 2
Про то, что деньги лучше хранить в сберегательной кассе
Тетя Юля подкинула свою малолетнюю дочь старикам и отправилась работать в Африку. А вернувшись из своего сказочного Магриба, как и полагалось в то далекое время, с ворохом подарков и центнером жвачки, почему-то забыла взять Асю обратно. Впрочем, всех это устроило. Бабушка и дедушка навсегда заполучили драгоценную внучку, внучка получила детство, отрочество и юность, полные любви и свободы, а тетя Юля, во-первых, личную жизнь, не омраченную заботой о подрастающем поколении, а во-вторых, обожание этого самого поколения. То есть безмерную любовь собственной дочери Анастасии. Ведь давно известно: любовь от разлуки только крепнет.
Хотя какая уж здесь разлука. Это я приврал, разумеется. Тетя Юля часто забирала Асю на выходные и к тому же проводила с ней летние отпуска.
А мне так и вообще стало лучше всех. Я обзавелся постоянным спутником в своих детских играх, а кроме того, надежным и мудрым товарищем. Ася была старше меня на целых полтора года. И в то время казалась куда умнее большинства взрослых. Именно моя двоюродная сестра поведала мне основные тайны устройства бытия, а вовсе не старшее поколение.
Когда мне было пять лет, она сообщила, что детей рожают, а не покупают в магазинах. Я растерялся, но возражать не решился. Когда исполнилось шесть, заявила, что Ленин – плохой человек. Я принял к сведению и ни разу не усомнился. А восьмилетнему объяснила, что такое проститутка, произнеся серьезно и немного снисходительно:
– Проститутка – это женщина, которая торгует своим телом.
Я ровным счетом ничего не понял, но, как всегда, согласился и кивнул.
Первые годы жизни нас держали на даче. Поближе к народу. Потом, когда Ася поступила в музыкальную школу, пришлось возвращаться в Москву. Дедушка, бабушка и Ася стали жить в большой комнате, а я с мамой и отцом – в маленькой. А через год Ася пошла в первый класс.
Вот из-за того, что в ее отсутствие мне стало нечем заняться, я и принялся сам себя развлекать. Поначалу мой досуг был тихим и вполне пристойным. Я читал, причем все подряд. Начиная с «Книги о вкусной и здоровой пище» и кончая монографией, описывающей быт народов Полинезии. Взрослым это нравилось. Потом я увлекся кораблями. Такими, как крейсер «Варяг» и фрегат «Паллада». И стал лепить их из пластилина в умопомрачительных количествах. Взрослым это нравилось куда меньше. Особенно бабушке.
В то время она учила нас с Асей играть на гитаре. Мои перемазанные пластилином руки намертво прилипали к грифу.
Затем я полюбил огонь. И тот сразу ответил взаимностью. Я бродил по дворам и поджигал все, что попадалось на глаза. От меня разило бедой и дымом пожарищ. Прожженная во всех местах куртка гремела спичечными коробками. Предчувствуя неотвратимое, меня сплавили в детский сад, от греха подальше, справедливо полагая, что скоро я запалю квартиру. Но оказалось, что размеренная коллективная жизнь противопоказана юному Прометею. Я немедленно начал болеть, причем делал это от души, видимо подсознательно не желая возвращаться к казенным творожным запеканкам.
Тогда меня оставили дома, предварительно попрятав все спички. Наивные люди! Спичек всегда было полно у деда Яши в письменном столе. Да и кроме них там было много всего интересного. Например, настоящая кобура от настоящего пистолета. Погоны с большой звездой. Коробка с орденами и медалями. Медицинский пинцет. Логарифмическая линейка. И прочее, по мелочи. Я сам не заметил, как променял свою увлекательную пироманию на созерцание этих сокровищ. Обычно я залезал в стол, когда бабушка после обеда ложилась спать. На эти два часа она не просто погружалась в сон, а как бы переносилась в совсем другое место за сто километров от дома. Разбудить ее днем было делом абсолютно нереальным. Поэтому мне удавалось преспокойно рыться в ящиках в паре шагов от ее кровати, нисколько не боясь быть застигнутым на месте преступления. Время от времени я подходил к шкафу и любовался собой в большое зеркало, по очереди прикладывая к груди дедушкины награды, полученные за ратный подвиг и мирный труд.
Видимо, дед Яша обнаружил кое-какие признаки моих визитов. Не говоря никому ни слова, он – неслыханное дело для нашей семьи – просто стал запирать стол на ключ. Не весь, а только центральный ящик. Самый большой и самый интересный. Выяснить, что он прячет ключ под стопкой белья в шкафу, было пустяковым делом.
И вот однажды во время очередной ревизии я заметил, что уголок пожелтевшей газеты, которой было выстелено дно ящика, немного отогнулся. И там лежит нечто интересное, розово-фиолетовое. Отвернув газету, я обнаружил, что это деньги. Точнее, пачка денег, правда, каких-то странных. Деньги, которые были в ходу, я знал хорошо. Самая большая была бумажка в сто рублей. Мне одну такую показывал дядя Вова, папин брат. А на тех, что из дедушкиного стола, на каждой значилось «Пятьсот рублей». Трактора нарисованы, заводы. Ага, вот и цифры: 1948. Сорок восьмой год. Все понятно. Старые деньги. На них уже ничего не купишь. Даже пистоны в «Детском мире». Старые деньги я один раз видел, мама откуда-то приносила. Только на тех было написано «Сто рублей» и нарисована царица Екатерина Вторая. Бесполезные картинки. Интересно, зачем они деду Яше?
А пачка-то какая толстая! Тяжелая, веревочкой перевязанная. Я аккуратно положил ее на зеленое сукно столешницы, снова приподнял газету и буквально залез туда с головой. Ничего себе! Все дно огромного ящика было выложено этими пачками. В три слоя. Как это я раньше не заметил? Вот ведь дедушка странный какой, зачем ему столько старых денег? Нужно Асе рассказать. Да чего уж там рассказать. Нужно Асе показать. Вместе посмеемся. А потом я все на место верну.
Не тратя времени даром, я быстро переложил все пачки в огромный бумажный мешок из многослойной коричневой бумаги, который взрослые называли почтовым. Он валялся сложенным в закутке коридора под старыми вещами. Мешок получился почти полным, едва ли не тяжелее меня. Мне составило немало труда волоком перетащить его в нашу комнату, потом я аккуратно расправил на дне ящика газету, запер стол, а ключ положил на место в шкаф, в стопку простыней и наволочек. Спящая бабушка даже не шелохнулась.
Тут и Ася из школы вернулась. Я с гордым видом показал ей стоящий посреди комнаты мешок. Ася, приподнявшись на цыпочки и рассмотрев содержимое, восхищенно покачала головой. К моей большой радости, она тоже от души повеселилась над сбрендившим дедушкой. Действительно как маленький, собрал такую кучу дурацких бумажек и доволен.
Ася, как обычно, сразу все здорово организовала.
– Будем играть в магазин! Чур, я продавец!
И только мы вывалили все пачки из мешка и приступили, как на пороге возникла бабушка. Проснулась. Мы сразу притихли. И хотя баба Люда никогда не применяла по отношению к нам экзекуций, я понял, что, возможно, именно сейчас нам достанется. Особенно мне.
– Так, почему вы роетесь в каком-то мусоре? – строго произнесла бабушка, глядя на гору денег. – Тебе, Ася, только цыпок на руках не хватало!
Она всегда переживала за ее руки. Еще бы, для гитариста – это главное.
– И что у вас за бумажки? – как всегда немного раздраженная после сна, брезгливо нахмурившись, спросила баба Люда. – Откуда они вообще взялись?
Ну все! Пропал! Правда, еще оставалась надежда, что бабушка тоже посмеется над чудаком дедушкой.
– Это же старые деньги, – вдруг весело и спокойно произнесла Ася, – их Алеше его другая бабушка отдала!
– С ума сойти, какая щедрость! – пробормотала баба Люда, выходя в коридор. – Не нашла ничего лучше, чем детям всякую дрянь подсовывать! Ася, быстро иди обедать, тебе уже заниматься пора!
Заниматься – значит на гитаре играть.
Пронесло! Вот не зря я Асю всегда мудрой считал, как быстро ей удалось сообразить, что нужно сказать. Теперь даже необязательно деньги обратно в стол запихивать. Бабушка их видела, не запретила – значит, разрешила. А дедушке они не нужны.
И мы стали играть в эти старые деньги почти каждый день. Придумывали себе разные истории, где по сюжету купюры должны были торчать изо всех карманов, а благородные герои сорили ими направо и налево. Нам вести такую разгульную жизнь очень нравилось. И когда Ася собралась на выходные к маме, я запихнул в ее старый клетчатый портфель этих пачек под завязку. Чтобы она там не скучала. Как же к маме совсем без денег идти?
Бабушка со временем привыкла к нашим играм и больше не ворчала. Только перед приходом родителей с работы я заталкивал ногами мешок к себе под кровать. А то еще выкинуть заставят, с них станется.
Однажды мы решили их пересчитать. Пачек было много, купюры все разные. На некоторых – они мне больше всего нравились – были рисунки. Танки, самолеты, поезда. На других только надписи. «Двадцать», «Пятьдесят», «Сто», «Двести», «Пятьсот» и даже «Тысяча рублей». Начали с мелких. Все время сбивались и путались. Читали мы хорошо, а считали еще не очень. Дошли до пятидесяти шести тысяч и бросили. Да и какая разница.
Ближе к лету нам незаметно наскучили эти игры. А вскоре и мне пришла пора идти в первый класс. Какое-то время я таскал эти деньги в школу и щедро раздавал пачки одноклассникам. Пусть поиграют. Потом и им надоело.
И я совсем забыл про старые деньги.
Прошло много времени. Год, а может, и два. Была суббота. Я, вернувшись из школы, стоял в ванной и мыл руки перед обедом. И тут в квартире все пришло в движение. Домашние вдруг забегали, заговорили взволнованными голосами, запахло валокордином.
На меня при этом никто не обращал никакого внимания. Интересно, а что случилось? Немного погодя показалась мама с печальным лицом. Присев на краешек ванны, она сдавленным голосом сообщила:
– У дедушки пропали все облигации. Из запертого стола. Он собирал их всю жизнь.
«Облигации»? Да, точно, там же на всех бумажках было это слово. А еще другие. «Государственный заем, восстановление народного хозяйства…»
– Тоже мне, нашел что всю жизнь собирать! – радостно объявил я. – На них и купить ничего нельзя!
Мама вздрогнула, как от удара током, медленно подняла глаза и шепотом спросила:
– Где?
Оказалось, что на дедушкины «старые деньги» можно было купить много чего. Правда, не сию минуту, а немного погодя. Это и правда были облигации. Те деньги, которые государство брало взаймы у своих граждан, чтобы потом отдать с лихвой. Но почему-то не отдавало десятилетиями. И всегда находились причины. То из-за подготовки к войне, то по причине самой войны, потом из-за последствий войны, а уж в дальнейшем, видимо, по привычке.
Но тогда, в начале семидесятых, наши отцы-правители, видимо, посчитали, что неудобно всякий раз заявлять о построении развитого социализма и одновременно с этим быть по уши в долгах у собственного населения. И вот впервые в советской истории было решено в скором времени постепенно гасить тиражи облигаций. Причем сделать их подобием лотерейных билетов. Некоторые счастливчики могли выиграть до ста номиналов, если не больше.
И про это великое событие было напечатано в газете «Известия» в пятничном номере. Дед Яша наткнулся на эту заметку лишь в субботу. И сразу жутко разволновался. Он уж и не верил в такое счастье. Его, ведущего сотрудника «Мосэнерго», можно сказать, всю жизнь, начиная с тридцатых годов, ровно на половину оклада заставляли приобретать облигации. И попробовал бы он отказаться.
Дедушка подошел к шкафу, вынул из-под стопки белья ключ, присел на кресло перед столом, поправил очки, повернул ключ в замке и выдвинул ящик. Он уже сто лет не смотрел на свои трудовые сбережения. Я почему-то представляю, что, прежде чем залезть под газету, он зажмурился в предвкушении прикосновения к приятно хрустящим стопкам. Неизвестно, было ли так на самом деле, но то, что вместо купюр дед Яша нашарил лишь дерево стола, это точно.
Как же меня ругали! Чего только мне не говорили! И когда я сразу сознался, и когда вытащили из-под моей кровати изрядно похудевший мешок, и когда пересчитали и выяснили, что осталось не больше половины, и особенно когда, объясняя недостачу, я рассказал, что в течение нескольких месяцев я, как сеятель, щедро разбрасывал пачки по классу в подставленные руки.
Самым употребляемым в те дни было слово «идиот». В основном говорили: «Ну что с него взять, с идиота». То есть с меня. Потом пришла тетя Юля и заявила с порога: «Какой же ты все-таки идиот!» Имея в виду, как ни странно, дедушку. Мне сразу полегчало. Настолько, что вспомнил за обедом про портфель, набитый облигациями, который Ася тогда унесла к маме.
– Какой портфель? – На лицо тети Юли стала набегать тень. – Такой красненький в клеточку? Да черт бы вас всех побрал!
Она даже со стула поднялась:
– Я же только на прошлой неделе посмотрела, там хлам какой-то, макулатура, взяла и в мусоропровод все выкинула!
А вечером я услышал, как отец негромко сказал маме:
– Как же можно быть такой идиоткой? Хоть бы посмотрела сначала, что выбрасывает.
Я понял, что наконец реабилитирован.
Папа и мама еще с неделю занимались тем, что обходили окрестные дома, пытаясь вернуть хоть малую часть. Родители моих одноклассников вели себя по-разному. Некоторые безропотно выносили в коридор пачки, извинялись, сообщали, что и сами собирались вернуть, но как-то не было времени. Другие отдавали, но весело предлагали не стесняться, приносить еще, не забывать золотишко и прочие ценности, мол, все примем. Ну а большинство, отводя глаза, гавкали: «Знать ничего не знаем ни про какие ваши облигации, ни про что другое». И захлопывали дверь перед носом.
Вскоре большую комнату стали запирать. Дедушка врезал замок. Он был новый, блестящий, закрывался на два оборота и защелку.
Визит
Так, Леха, собирайся! – Андрюша Орликов, раскрасневшийся с мороза, жарко подышал на руки, пытаясь согреться. – Только для начала давай чайку выпьем и пойдем!
Сегодня, во вторник утром, Андрюшкина жена Таня родила в нашем роддоме девочку. Вот он и решил не орать под окнами, а, пользуясь случаем, проникнуть туда изнутри. Хотя он уже и не сотрудник нашей больницы, а клинический ординатор Кардиоцентра. Но кто про это знает?! Да я и сам здесь последнюю неделю, не считая сегодняшнего дежурства, еще только в четверг на сутки нужно выйти, и все! Прощай, нищая медбратская юность!
Я пойду в роддом как друг семьи, мы с Таней знакомы давно, почти столько же времени, что и с самим Андрюшкой. Я даже с ней пару раз танцевал, когда на дни рождения приходил, а она смеялась и говорила: «Вот не знала, что в вашей больнице такие медбратья!» Теперь знает. Хотя в глубине души мне казалось, что я тут лишний, нужно бы Андрюше одному сходить, но углубляться не стал.
Мы по-быстрому выпили в «харчевне» чаю, а перекурить решили по дороге. До роддома подвалом идти минут десять. Шли знакомой дорогой и весело болтали. Наступил вечер, подвал был пустой, звуки наших шагов разносились далеко. А в том месте, где находился переход в новый корпус, мы остановились и по очереди посвистели. Троекратное эхо было нам наградой.
– А вы к кому и откуда? – строго спросила нас роддомовская медсестра, когда мы подошли к посту. Там режим соблюдался всегда очень строго, ну это и правильно. Не проходной двор.
– Мы из реанимации, пришли к Орликовой! – бойко отрапортовали мы. – Сначала девочку посмотрим, а потом с мамой поговорим!
– Быстро вы как, вас сегодня и не ждали! – кивнула медсестра, открывая перед нами дверь бокса. – А мне наши сказали, что из реанимации только завтра придут.
Мы с Андреем посмотрели друг на друга и пожали плечами, непонятно почему это они нас завтра ждут и вообще чего нас ждать, если никто никого не предупреждал.
Но что-то вдруг неприятно зашевелилось внутри, какое-то ощущение смутной тревоги.
Мы подошли к маленькой кроватке, на которой лежал сверточек. Нагнулись, посмотрели на крохотное личико.
– И как тут дела? – весело спросил Андрюшка, вопрос был так, больше для порядка.
– Да ничего хорошего! – последовал ответ, и у меня все рухнуло куда-то вниз. – Вам же по телефону должны были рассказать, что здесь совсем все плохо! Уже и педиатр был, после того как судороги начались, гипоксия нарастает, а что, почему – пока непонятно! Маме пока еще не говорили, но, наверное, завтра к вам переведут!
Так вот почему сестра сказала, что нас не сегодня ждали. Она нас за детскую реанимацию приняла. При нашей больнице еще и детский корпус есть, там и реанимация своя, значит, их на завтра для консультации пригласили!
Мы прошли в палату, где лежала Таня. Дежурные слова поздравлений прилипали к нёбу.
– Андрюша, дорогой, поздравляю тебя! – потянувшись поцеловать мужа, произнесла она, и на глазах у нее заблестели слезы. – Нужно обязательно акушерке подарок сделать, роды были совсем непростые, ты не забудь поблагодарить!
Я стоял рядом, смотрел на бледного, растерянного Андрея и безуспешно пытался изобразить подобие улыбки.
Не надо было мне идти сюда, вот что! Я совсем не умею прикидываться. Хотя тут рано говорить, может, все обойдется. Да конечно обойдется, кто по первому дню выводы делает!
Обратный путь по подвалу мы проделали молча. Только уже около лифта я посмотрел ему в глаза.
– Андрюш, сам же понимаешь! – Я пытался выглядеть убедительным. – Может, там ничего страшного, перерастет!
Андрюша медленно кивнул. Его дочери оставалось жить недолго. Где-то совсем близко завывал Минотавр.
28 ноября 1986 года
Вот и завершилось мое последнее дежурство в реанимации. Я уже отчитался на утренней пятиминутке, сидел в одиночестве в сестринской комнате, тупо курил и ждал половины десятого.
Сутки были – врагу не пожелаешь. Прямо с самого утра все пошло наперекосяк. То, что вместо пяти сестер вышло четверо, – к этому давно все привыкли. Но после завтрака Люсе Сорокиной позвонили из дома и сообщили, что у нее заболел ребенок, и она быстренько собралась и убежала. Замены не предвиделось. Это была катастрофа. А в довершение всего только до обеда прикатило четыре «скорых» по эстакаде, да еще с такими больными, что даже мне на них смотреть было страшно. Я зашивался на прием с улицы, а в блоках работало по одной сестре, причем обе были Танями. Таня Власова и Таня Тимошкина. И дежурного врача тоже звали Татьяной. Просто какая-то бригада «Таня в кубе». Можно было поставить их кружком и загадать тройное желание.
В прошедшие сутки ответственным реаниматологом дежурила Татьяна Александровна Жуковская, и это многое объясняло. Она была отзывчивым, милым человеком, знала живопись и театр, а еще имела хоть и оригинальную, но отчетливую гражданскую позицию. Например, она заявляла:
– Всех молодых людей, прошедших Афганистан, любой вуз обязан принимать без экзаменов!
Когда я спросил про Физтех, Строгановское и ГИТИС, Татьяна Александровна почему-то обиделась и сказала:
– Слава богу, это не вам решать!
Вообще-то с ней приятно было поговорить о разных вещах. Но работать реаниматологом – это был не ее сюжет.
Мне кажется, из нее получился бы хороший врач санатория, отделения физиотерапии, диспансерного кабинета. То есть где нужна именно душевность, где не случается ничего экстренного, не надо производить сложных манипуляций, да и при назначении лечения установлен некий лимит.
Но в нашем отделении даже спокойные дежурства Татьяна Александровна умудрялась перевести в такую плоскость, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Да и листы назначений у нее всегда были как поэма Лермонтова «Мцыри». В том плане, что точно не меньше по размеру текста. Даже самая скрупулезная и честная сестра вряд ли могла выполнить половину из этих предписаний. И слава богу. Потому как теоретический объем лекарственных средств, который предполагался к введению за сутки, приближался к массе тела самого больного. Одной кокарбоксилазы Татьяна Александровна за неделю назначала столько, сколько вся Польская Народная Республика не производила и за полгода.
Сутки, отработанные под ее началом, выматывали неимоверно. И физически и морально. Но утешением, хотя и слабым, было то, что она всех сестер подчеркнуто звала на «вы» и в минуты передышки могла сама предложить чай. А утром говорила неизменное: «Спасибо за дежурство!»
Почему-то больных ей нравилось называть старорежимным словом «голубчик». Меня почему-то это со временем стало здорово раздражать. Одно дело, когда ты стоматолог и в кресле перед тобой пациент, которому ты собираешься с хрустом влезть в пульпу. Вот тогда ему можно сказать: «Потерпите, голубчик!» А когда принимаешь воющего скота, подстреленного милицией и прикованного наручниками к койке по той причине, что он час назад зарубил топором всю свою семью, затем соседей, попавшихся ему в коридоре коммуналки, и под занавес – сержанта, который прибыл по вызову, то какой же он «голубчик»?
Однажды, будучи молодым и зеленым, я дежурил по первому блоку. На пятой койке лежала женщина, перенесшая тяжелейший и длительный приступ бронхиальной астмы, называемый астматическим статусом. Дошло до того, что она несколько дней провела на аппаратном дыхании. И когда аппарат отсоединили и больная заговорила, выяснилось, что в ответ на продолжительный недостаток кислорода у нее развилась постгипоксическая энцефалопатия. Проще говоря, она стала дура дурой.
За такими нужно следить в оба, пока они чего-нибудь не отчебучили. Больные в этом состоянии могут выпрыгнуть в окно, сбежать из отделения и голыми носиться по коридору, запустить тяжелым предметом в голову доктору и сотворить еще много чего занятного.
Наша пациентка всего-то достала из тумбочки зубную пасту и хорошенько натерла себе лицо, плечи и грудь.
– Зачем же вы это сделали! – с автоматическим легким укором начал я, отмывая ее пеленкой. – Придется вам руки привязать!
– Я прекрасно понимаю, что это не крем! – с явным высокомерием ответила та. – Но у меня зудит все тело! Если у вас есть что предложить мне более интересное, чем привязывать руки, не стесняйтесь!
– Вы считаете, – заканчивая водные процедуры, сказал я, – что от зубной пасты зудеть будет меньше? Вы как ребенок, честное слово!
– А у вас что, – с недоверием посмотрела она на меня, – может, и дети есть?
– Есть! – гордо сообщил я. – Сын, вчера ровно два месяца исполнилось! – Хотя, честно говоря, отцом я себя еще не ощущал.
– Ну а моему уже девятнадцать! – почему-то надменно произнесла она. – Вы думайте, когда сравниваете!
Вот в таком духе происходили все диалоги. Да я особо к ней и не цеплялся, других дел было полно.
Утром Татьяна Александровна заступила на дежурство и пришла в первый блок принимать смену у доктора Коротковой. И, подойдя к пятой койке, по своему обыкновению, не скрывая сострадания, спросила:
– Голубчик, миленький, как мы сегодня себя чувствуем, как у нас дела?
– Ужасно! – голосом Фаины Раневской произнесла та. – Ужасно у меня дела!
– Голубчик, что же случилось? – чуть не плача, воскликнула Татьяна Александровна и прижала кулачки к груди.
– Случилось то, – проинформировала больная, – что ваш медбрат Леша Паровозов – американский шпион!
Я, помню, сразу закатился, уж больно смешная производная от моей фамилии получилась. А та продолжала меня разоблачать:
– Его, видимо, давно завербовали, теперь он у них на крючке! Они только свистнут, так он сразу рад стараться, любой секрет продаст!
Она посмотрела на Татьяну Александровну, пытаясь понять, какой эффект произвели ее слова. И видимо, удовлетворившись, решила не останавливаться:
– А еще они надо мной издевались всю ночь! – И, победно оглядев присутствующих, пояснила: – Леша Паровозов и его мать, кувалда жирная!
И кивнула на мою напарницу Ленку Андронову, отчего та немедленно зарделась.
«Моей матери, жирной кувалде» Ленке только исполнилось восемнадцать, а называть ее жирной было явным перебором. Ленка находилась в той стадии аппетитности и румяности, от которой все хирурги-кавказцы приходили в неизменный восторг.
– А самое главное, он постоянно пытался руки мне связать, чтобы вдоволь поглумиться! – снова наябедничала она, и Татьяна Александровна вздрогнула. – А перед тем, как издевательства свои начать, всегда для храбрости спирт из стеклянной баночки выпивал! И пьет-то он не как все, по-русски, а только после того как взболтает!
И рукой показала на шкаф, где у нас действительно стояла священная склянка. Татьяна Александровна с явным подозрением посмотрела на меня. Потом снова повернулась к больной.
– Голубчик, не волнуйтесь! – Она принялась ее утешать. – Все будет хорошо!
«Голубчик», поджав губы, снисходительно кивнула. «Ладно, если вы мне гарантируете, что будет хорошо, так и быть, еще полежу у вас!» – выражал весь ее облик.
– Да, вот еще что! – в заключение вспомнила она. – Он всю ночь какие-то телефонограммы отправлял, этот ваш Леша Паровозов! Хорошо бы выяснить, куда и зачем!
От греха подальше я поскорее удрал домой, от Татьяны Александровны и «голубчика». Но с тех пор «Леша Паровозов» приклеилось надолго.
А таких суток, как прошедшие, давно не случалось. Поступления с улицы, вызовы на этажи, поступления из операционных, кровотечения, остановки, реанимации успешные и нет – все это было и раньше, но чтобы вот так, без просвета и перерыва, да еще с Татьяной Александровной, да еще при неукомплектованной бригаде, когда на все шесть коек в блоке совмещаешь кровь для переливания и стучат шесть аппаратов…
Все носились как угорелые, а я похудел, наверное, кило на пять, не меньше.
К ночи, когда все только усилилось и больные уже лежали даже в коридоре, отменился ужин, перекуры, – вот тогда я впервые с какой-то злостью подумал: ну и правильно, что ухожу! Выдерживать такое за сущие копейки, да к тому же безо всякой признательности со стороны начальства – это уже не для меня.
В шесть утра остановился кардиохирургический больной. И когда мы с Татьяной Александровной бросились качать, дефибриллировать, я успел заметить, что на соседней койке роддомовская больная, отвязав руку, медленно вырывает изо рта интубационную трубку. А я даже не то что подбежать к ней – и заорать-то толком не мог, все равно позвать некого. Так и наблюдал между разрядами дефибриллятора и массажем сердца, как она выдернула трубку, затем зонд с капельницей, а потом и сама соскользнула с койки, оставшись на полу с одной привязанной рукой.
Мы все-таки завели больного, подняли и уложили на место и привязали женщину из роддома, не знаю как, но я успел всех умыть и перестелить и даже пол надраить.
И около восьми, пользуясь неожиданной паузой, поехал с одной из Танек в морг. Этой ночью у нас умерло двое.
Обычно я ездил туда один, но тут почувствовал, что сил уже нет, вот и взял себе подмогу.
В том месте, где основной подвал переходил в корпус патанатомии, есть отчетливый спуск и небольшой поворот. Спуск видят все, а поворот маленький, незаметный. Нужно уметь управлять койкой в этом месте. Таня таких тонкостей не знала, более того, она взяла и выпустила койку из рук. Это была моя вина, забыл ее предупредить, потому что шел с ватной головой, мало чего соображая, непонятно о чем думая, и проснулся лишь в тот момент, когда тяжеленная хромированная финская кровать, нагруженная двумя покойниками, на скорости отвесила мне хорошего пинка под зад. Не ожидая подобного, я со всего маху впечатался в стальную, с колесом-запором на случай ядерной войны, дверь.
Как же здорово я приложился, даже половина тела онемела! Вернее, та половина, по которой ударила кровать, и еще половина, которая врезалась в дверь. Другими словами, болели обе половины, то есть весь мой хрупкий организм.
И пока я сидел, скрючившись, тихонько завывая от боли, понял, что просто больница не хочет меня отпускать. Поэтому и последнее дежурство такое, и сейчас вот под занавес получил.
– Поехали скорее, Танька, – простонал я не то Власовой, не то Тимошкиной, – ты только койку придерживай. А то как бы мне под конец инвалидом не стать!!!
Хорошо, что этого не слышал суеверный Андрей Орликов. Он всегда вопил, чтобы я не болтал лишнего. «Неужели ты не понимаешь, Леха, что все слова, которые мы произносим, имеют большое значение?! Ничего не говори просто так!!!»
А вот Минотавр радостно захрюкал, притаившись где-то за углом.
Я сидел на кушетке, курил, вливал в себя уже третью кружку чая и ждал половины десятого, когда должна закончиться общая утренняя конференция. Мне нужно было получить подпись главного врача на бумажке о переводе в Клинику нервных болезней, и с этого момента я уже перестану числиться сотрудником Седьмой больницы. Оставалось около двадцати минут. И тут я впервые критически себя оглядел, насколько это было возможно, в наше маленькое зеркало у рукомойника.
Как же я забыл, что наша больничная администрация не терпит, когда к ним вваливаются в затрапезном виде, в жеваных халатах, в форме со следами крови. Еще бы, ведь работа в администрации почетна и ответственна. Тех, кто занят на этом посту, видимо, очень раздражает, когда им напоминают, что есть еще и другие занятия, помимо марания бумаги. Другими словами, наверняка тут, помимо этики, присутствовал и такой мотив: нечего нести на себе следы того, от чего эти люди в больших креслах давно отвыкли и снова привыкать не желают ни за какие коврижки.
Но если говорить начистоту, то и у посетителей, шатающихся по первому этажу, вид моего гардероба вряд ли бы вызвал прилив положительных эмоций.
Моя хирургическая форма и халат были заляпаны всем, что можно собрать за сутки в реанимации. Кровь, гной, йод, фурацилин, марганцовка, зеленка – всего и не перечислить. Я поэтому и домой не таскал свои шмотки, а всегда стирал на работе.
Так, нужно быстро пойти погладить халат, у меня в шкафчике висел запасной, чистый, но не отутюженный. А потом переоденусь в гражданку, халат накину сверху, как раз время подойдет в канцелярию идти. Хорошо бы еще галстук повязать, как Юрий Яковлевич в таких случаях, да больно много чести! Я схватил утюг в лаборатории и уже направился в сестринскую, но тут за моей спиной загрохотало.
По коридору плелась Маринка Ксенофонтова и толкала впереди себя аптечную каталку с двумя здоровенными пустыми стеклянными банками, в которых у нас держали дистиллированную воду.
Понятно, значит, собралась ехать в стерилизационное отделение, где в подвале стоял дистиллятор. Как, интересно, она собирается это делать? Банки были здоровые, не то на двадцать, не то на двадцать пять литров. Для того чтобы их наполнить, нужно было поставить на пол каждую под кран дистиллятора, а потом, уже полную, погрузить на каталку. Тут и обычной девушке одной не справиться, а Маринка была не то на шестом, не то на седьмом месяце.
Она поэтому и работает на так называемом «легком труде» в качестве дневной сестры, именно в их обязанности входит воду привозить. Хорош, ничего не скажешь, легкий труд! На беременных, как на обиженных, воду возят!