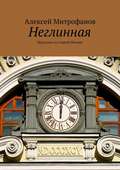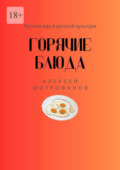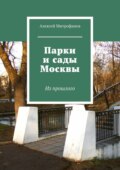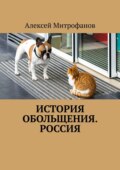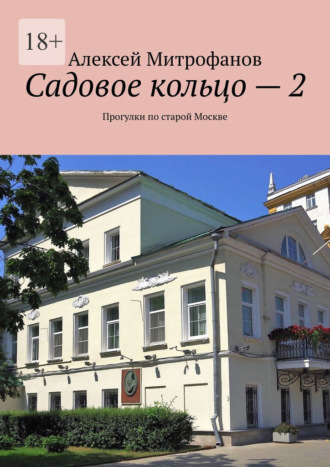
Алексей Митрофанов
Садовое кольцо – 2. Прогулки по старой Москве
У старосты покупали серое мыло ценой в 8 копеек. Белье стирали в бане; баня топилась каждый день, но очень там было тесно. Одевались работницы на работу в ситцевые платья».
И дальше – собственно о подвиге: «Мне дали задание ходить по магазинам и следить за ценами на продукты (так как во время забастовки цены всегда поднимались), если же найдутся таковые, то конфисковать в пользу дружинников. Это поручение я исполняла до конца забастовки. В 12 часов мы пошли встречать своих товарищей, шедших со смены, и с ними пошли на кухню, откуда после небольшого митинга пошли по домам. Фабрика замерла.
Вечером того же 7 декабря дружинники ходили по квартирам, где жили пристава, городовые, околоточные, и обезоруживали их. 8 декабря на кухне было собрание…
Нам, женщинам, было поручено изготовить флаг. В этот же день наши депутаты ходили к фабриканту и требовали выдачи жалованья звонкой монетой. 9-го получили жалованье и вносили деньги на продукты в лавку. Вечером было собрание, где депутаты призывали к демонстрации 10 декабря.
10-го мы вышли на демонстрацию с флагом… Впереди шли члены Совета… Другой флаг несли Козырева и Анна из красильного отделения, фамилии которой не помню. На флаге было воззвание к солдатам: «Товарищи солдаты, не стреляйте в нас, вы наши братья, разденьте ваши шинели и посмотрите на себя, вы такие же рабочие, как и мы».
Как только демонстрация пошла на Пресню, то с двух концов ее окружили казаки. Толпа дрогнула и бросилась врассыпную, некоторые разбежались, а некоторые остались. Анна тоже убежала от Козыревой, которая осталась посреди улицы одна с флагом. Так как флаг был на двух палках. то мне пришлось помочь ей развернуть его, чтобы прочесть казакам. Козырева повторила солдатам словами то, что было написано на флаге. Офицер кричал, чтобы мы ушли с дороги, а солдаты, на которых подействовали наши слова, уехали, не дождавшись команды офицера».
Вот, собственно, и весь подвиг.
А что же Прохоровы? Как сложилась жизнь этой семьи после революции? Юрий Нагибин писал в дневнике: «Дом напротив, где в квартире первого этажа жила семья Надежды Николаевны Прохоровой, вдовы наследника хозяина „Трех гор“. Могучий старец, создавший самую мощную мануфактуру в Москве, был любимцем рабочих, но это ничуть не расположило советскую власть к его потомкам. Прохоров-сын успел умереть своей смертью, оставив семью в благородной бедности, чтобы не сказать – нищете. Быть может, холодность властей объяснялась тем, что по отцу Надежда Николаевна была Гучкова, дочь министра Временного правительства. Ее не посадили, и на том спасибо. Посадили ее сестру, которая изображена рядом с ней на очаровательном рисунке В. Серова „Сестры Гучковы“. Дочь этой Гучковой находилась на попечении Надежды Николаевны».
Типичная, в общем, судьба.
* * *
Неподалеку, на Дружинниковской улице, 9 размещалась мебельная фабрика легендарного промышленника-революционера Николая Шмидта. Он унаследовал это производство в 1904 году, будучи недавним отроком – в 21 год. Его отец, пребывая, по сути, на смертном одре, прекрасно понимал, что сын не справится, и фабрику хотел продать. Но покупателей не находилось. Фабрика была на грани разорения, и ее спас только крупный заказ Харитоненко – он как раз обставлял свой особняк на берегу реки Москвы, мебели требовалось много.
Будучи членом РСДРП (б), товарищ Шмидт ввел девятичасовой рабочий день и обязательное обращение к рабочим на «вы». В революцию 1905 года снабжал боевиков парабеллумами, что, впрочем, окончательно не доказано.
Столяр фабрики Ф. И. Трубицын вспоминал: «Хозяин нашей фабрики, Николай Павлович Шмидт, сам был революционер, как и его сестра Екатерина Павловна. Они собирали на своем предприятии передовых рабочих и очень много сделали для того, чтобы усилить классовое сознание, повысить нашу грамотность и культуру, научить нас правильно разбираться в сложной политической обстановке того времени.
Николай Павлович принимал самое активное участие в подготовке Декабрьского восстания в Москве, не жалея ни денег, ни сил для вооружения рабочих дружин. Здесь, в цехах этой фабрики, впервые услышал я лозунг: «Да здравствует вооруженное восстание!» И здесь же впервые в жизни я взял в руки браунинг».
Максим Горький писал: «В Москве начались слушанием „дела“ о вооруженном восстании в декабре 1905 года, – мне хочется показать публике, как создавались эти „дела“ полицией и судебной властью. Для примера возьму „дело“ Николая Шмидта, о котором имею точные, строго проверенные мню сведения».
И дальше – собственно, повествование: «Николай Шмит – студент университета, очень богатый человек, он владел лучшею в Москве фабрикой стильной мебели, предприятие его было поставлено во всех отношениях прекрасно, славилось изяществом своих работ, давало большие доходы.
Человек молодой, по природе своей мягкий, влюбленный в художественную сторону своего дела, Шмит нашел справедливым улучшить положение рабочих своей фабрики, что, вероятно, было небезвыгодно ему как хозяину предприятия.
Его приличные отношения к рабочим и – обратно – добрые отношения рабочих к нему создали Шмиту в глазах московской полиции репутацию либерального фабриканта, политически неблагонадежного человека…
17 декабря, в 4 часа ночи, отряд полиции и казаков ворвался в квартиру Н. Шмита.
На требование Шмита – объяснить, в чем дело, ему показали бумагу, в которой говорилось, что он, Шмит, должен быть арестован и отвезен в Таганскую тюрьму. Обыск не дал никаких результатов. Шмита арестовали, но отвезли не в Таганскую тюрьму, а в Пресненский полицейский дом.
Там полицейский чиновник объявил ему новость: «Нам известно, что вы один из руководителей революционного движения, что у вас на фабрике хранятся пушки, пулеметы и прочее, а поэтому немедленно выдайте все это, или мы вас расстреляем!»
Арестованный отрицал свою причастность к революции, но, принужденный угрозами и криками, согласился написать рабочим своей фабрики записку такого содержания: «Говорят, что у вас имеется оружие, если это правда, выдайте его, в противном случае грозят уничтожить фабрику». Эта записка, очевидно, не была доставлена по назначению, так как уже через пять минут после ее написания началась страшная канонада всей Пресни – местности, где находилась фабрика Шмита…
На третий день Шмиту было приказано одеться и идти. Во дворе его бросили в больничную военную телегу, посадили с ним несколько солдат Семеновского полка, окружили конвоем и повезли… По дороге семеновцы, щелкая затворами винтовок и подталкивая его пинками, говорили:
– Вот сейчас мы тебя расстреляем!.. И чего с тобой возиться?.. Убить бы сейчас, как собаку!..
Через час Шмит был привезен за город, в местность около кладбища, и высажен из телеги. Здесь уже находилась пехота, казаки, пленные рабочие с его фабрики и других, обыватели Пресни, оцепленные войсками. Полупьяные солдаты грубо издевались над людьми, били их. К Шмиту подошел один из офицеров Семеновского полка, размахнулся и ударил в лицо, цинично ругаясь… А через несколько минут Шмит видел, как двое рабочих с его фабрики были отведены в сторону, раздался залп, другой… Солдаты побежали смотреть трупы.
Часа два Шмит наблюдал картины ужаса и жестокости, наконец, стал требовать к себе офицера, чтобы узнать, зачем его привезли сюда и нельзя ли ему сделать какие-нибудь распоряжения.
Явился полковник Мин и спокойно сказал:
– Теперь завещания делать не время, поздно, сейчас ты будешь расстрелян! Но, впрочем, если ты назовешь своих сообщников, тогда мы посмотрим…
Потрясенный всем, что он видел, ужасом, который пережил, разбитый угрозою смерти, Шмит назвал несколько имен своих знакомых, первые имена, какие пришли ему в голову, вспомнились без отношения к событиям. После этого Мин уже сам отвез его снова в Пресненскую часть, приказал дать отдельную комнату, бумаги, перо и дал час времени для того, чтобы Шмит написал показание. Через час Мин явился и, прочитав показание, отвез Шмита в здание тайной полиции, так называемое охранное отделение».
Между тем, фабрику Шмидта, прозванную царскими войсками «чертовым гнездом», полностью уничтожили. Большевик Николай Валентинов писал: «Во время подавления декабрьского восстания в 1905 году фабрика Шмита была дотла разрушена пушками правительственных войск, – В этом акте проявилось нечто большее, чем желание подавить один из главных революционных бастионов, – это была месть. Бомбардировка шла и после того, как стало ясным, что сопротивление никто из фабрики не оказывает. Некоторые рабочие были расстреляны, многие арестованы».
Революционер И. Петухов писал: «Ночью 13 или 14 декабря, точно не помню, когда, открылась беспощадная орудийная стрельба по Пресне. Разрушали фабрику Шмидта. От разрывающихся снарядов пожар охватил большие здания по улице от Зоологического сада».
Даже на фоне кровавых событий на Пресне разрушение шмидтовской фабрики выделялось как нечто экстраординарное.
Больше того, разрушение фабрики использовали в качестве пыток. Надежда Крупская писала: «Николай Павлович был арестован, его всячески мучили в тюрьме, возили смотреть, что сделали с его фабрикой, возили смотреть убитых рабочих, потом зарезали его в тюрьме. Перед смертью он сумел передать на волю, что завещает свое имущество большевикам».
А вот обстоятельства гибели Шмидта туманны. Он то отказывался от своих показаний, то вновь подтверждал их. В конце концов, после года одиночного заключения, он был найден мертвым в камере тюремной больницы, куда был помещен по подозрению в умопомешательстве. Тот же Валентинов рассказывал: «Тюремные сторожа, получавшие от родственников Шмита весьма изрядную мзду, выполняли потихоньку по его поручению все сношения Шмита с внешним миром. Говорили, что речи, которые им держит Шмит, часто таковы, что ничего в них разобрать нельзя. Странным им казалось и его отношение к приходящим к нему на свидание сестрам. То он плакал, что их около него долго нет, то говорил сторожам: «Гоните их в шею, не допускайте ко мне…«».
По одной из версий Шмидт выбил стекло и зарезался его осколком, а по другой его просто убили.
После революции на месте фабрики установили памятный камень и разбили детский парк имени Павлика Морозова.
* * *
В доме же 5 по Нововаганьковскому переулку находится обсерватория. Относилась она к университету и была открыта в далеком 1831 году. Ранее эта территория принадлежала Зою Зосиме – предпринимателю и меценату греческого происхождения. Не удивительно, что земля досталась университету фактически даром. Просвещенный грек писал попечителю Московского учебного округа Александру Александровичу: «Милостивый государь, Александр Александрович! На почтеннейшее отношение Вашего Превосходительства от 26 сего мая №662, имею честь сим ответствовать, что принадлежащую мне дачу, находящуюся в Пресненской части на трех горах, я никогда не отдавал во владение Императорскому Московскому Обществу Испытателей Природы, а имел желание и теперь желаю пожертвовать оную Императорскому Московскому университету на устройство на оном месте Обсерватории, или на что другое полезное с Высочайшего утверждения Его Императорского Величества. Да послужит сие приношение мое новым доказательством отличного уважения моего к Московскому университету, коего я имею честь именоваться Почетным членом.»
На протяжении года шло строительство, за которым присматривал известный астроном Д. Перевощиков, прославившийся в первую очередь как автор-составитель первых в России учебников по астрономии. Здесь же он, по окончании строительства и проживал.
О Перевощикове писал сам Чернышевский: «Имя г. Д. М. Перевощикова пользуется у нас громкой известностью, вполне заслуженной… В последние тридцать лет никто не содействовал столько, как он, распространению астрономических и физических явлений в русской публике… Количество написанных им с этой целью статей очень велико, и по числу, и по внутреннему достоинству они в русской литературе занимают первое место».
Сам же Перевощиков ответствовал на это: «Эко он меня! В знаменитости записал, смешно, право».
Служил здесь и русский астроном Витольд Карлович Цераский, известный как основатель московской школы фотометрии. А поэт Волошин посвящал ему стихи:
Его я видел изможденным, в кресле,
С дрожащими руками и лицом
Такой прозрачности, что он светился
В молочном нимбе лунной седины.
Обонпол слов таинственно мерцали
Водяные литовские глаза,
Навеки затаившие сиянья
Туманностей и звездных Галактей.
В речах его улавливало ухо
Такую бережность к чужим словам,
Ко всем явленьям преходящей жизни,
Что умиление сжимало грудь.
Таким он был, когда на Красной Пресне,
В стенах Обсерватории – один
Своей науки неприкосновенность
Он защищал от тех и от других.
И правда, следовало быть энтузиастом, вконец оторванном от жизни, чтобы посвятить себя небесному мироустройству.
Общество активно интересовалось деятельностью лаборатории. Это видно хотя бы по обилию газетных заголовков, посвященных космической тематике. Вот, к примеру, заметка под названием «Магнитные бури», опубликованная в 1909 году в газете «Раннее утро»: «Вчера метеорологические инструменты московских обсерваторий снова отметили сильнейшую магнитную бурю, которая опять должна была произвести путаницу в телеграфном сообщении. Можно ожидать, что магнитные бури будут повторяться периодически в течение всего октября. Так как магнитные бури всегда являются самыми верными предшественниками землетрясений, ожидают в течение октября-ноября новых сильных колебаний почвы, преимущественно на юго-западе Европы и Востоке Азии».
Другая заметка носила название «Комета»: «Комета Галлея приближается. Теперь с московских обсерваторий она видна уже в трубы средней величины, приблизительно как звезда 10 разряда по величине. Скорость, с которой комета движется по направлению к Земле, определяется московскими астрономами в 3 000 километров в секунду. Вероятнее всего, что с 25 числа комету можно будет видеть в хороший полевой бинокль, а числа 28—30 – она станет видна и простым глазом. Искать комету Галлея на небе нужно в близком соседстве с Марсом».
В январе 1910 года газет обнадеживали: «Посредством так называемой экваториальной камеры, устроенной дрезденским механиком Гейде по плану проф. Цераского, на московской обсерватории производится тщательное фотографирование звездного неба, обещающее привести к ценным научным открытиям».
А в январе 1912 года сотрудники обсерваторию вошли в научную полемику с американскими коллегами. И оказались правы: «Директор университетской обсерватории проф. Цераский опровергает утверждение американского астронома Тога, будто у Сатурна исчезли кольца. Московская обсерватория проверила сообщение Тога и нашла кольца Сатурна в полном порядке, не заметив в них никаких изменений».
И, разумеется, почтеннейшую публику не забывали извещать об обновлениях обсерваторского инструментария: «На днях астрономическая обсерватория московского университета получила из заграницы новую астрономическую трубу. Труда эта изготовлена механиком Гейде (Heyde) в Дрездене, а объектив для новой трубы был заказан фирме К. Цейс в Иене. Диаметр объектива – 7 дюймов… Эта труба может дать увеличение до 3-х тысяч раз».
* * *
А на месте дома №14—16 некогда стоял дом Ушаковых, в котором частым гостем бывал Пушкин. Сын Н. Киселевой-Ушаковой вспоминал: «В доме Ушаковых Пушкин стал бывать с зимы 1826—1827 годов. Вскоре он сделался там своим человеком. Пушкин езжал к Ушаковым часто, иногда во время дня заезжал раза три. Бывало, рассуждая о Пушкине, старый выездной лакей Ушаковых, Иван Евсеев, говаривал, что сочинители все делают не по-людски: „Ну, что, прости господи, вчера он к мертвецам-то ездил? Ведь до рассвета прогулял на Ваганькове!“ Это значило, что Ал. С-ч, уезжая вечером от Ушаковых, велел кучеру повернуть из ворот направо, и что на рассвете видели карету его возвращающеюся обратно по Пресне. Часто приезжал он верхом, и если случалось ему быть на белой лошади, то всегда вспоминал слова какой-то известной петербургской предсказательницы (которую посетил он вместе с актером Сосницким и другими молодыми людьми), что он умрет или от белой лошади, или от белокурого человека – из-за жены. Кстати, об этом предсказании Пушкин рассказывал, что, когда он был возвращен из ссылки и в первый раз увидел императора Николая, он подумал: „не это ли – тот белокурый человек, от которого зависит его судьба?“ – Охотно беседовал Пушкин со старухой Ушаковой и часто просил ее диктовать ему известные ей русские народные песни и повторять их напевы. Еще более находил он удовольствия в обществе ее дочерей. Обе они были красавицы, отличались живым умом и чувством изящного».
Дом, между прочем, был известен. И не только в Москве. «Дамский журнал» писал: «По окончании симфонии Гайдна две прекрасные хозяйские дочери пели первую часть Stabat Mater знаменитого Перголези… и пели, как Ангелы… Концерт закончился блестящим финалом, а вечер веселым ужином. В числе гостей было много знатоков, любителей и любительниц музыки».
Пушкин был увлечен Екатериной Ушаковой. П. Бартенев писал: «Екатерина Ушакова была в полном смысле красавица: блондинка с пепельными волосами, темно-голубыми глазами, роста среднего, густые косы нависли до колен, выражение лица очень умное. Она любила заниматься литературою. Много было у нее женихов; но по молодости лет она не спешила замуж. Старшая, Елизавета, вышла за С. Д. Киселева. – Является в Москву Пушкин, видит Екат. Ник. Ушакову в благородном собрании, влюбляется и знакомится. Завязывается полная сердечная дружба».
А вот дневник одной из современниц, Е. С. Телепневой: «Екатерина Ушакова была в полном смысле красавица: блондинка с пепельными волосами, темно-голубыми глазами, роста среднего, густые косы нависли до колен, выражение лица очень умное. Она любила заниматься литературою. Много было у нее женихов; но по молодости лет она не спешила замуж. Старшая, Елизавета, вышла за С. Д. Киселева. – Является в Москву Пушкин, видит Екат. Ник. Ушакову в благородном собрании, влюбляется и знакомится. Завязывается полная сердечная дружба».
Именно здесь, в альбоме Елизаветы Ушаковой Пушкин изобразил спискок тех дам, в которых ему довелось когда-либо влюбиться. Он вошел в историю как «Дон-Жуанский список Пушкина»: «Наталия I, Катерина I, Катерина II, NN, Кн. Авдотия, Настасья, Катерина III, Аглая, Калипсо, Пульхерия, Амалия, Элиза, Евпраксея, Катерина IV, Анна, Наталья.» И вторая часть, уже без номеров: «Мария, Анна, Софья, Александра, Варвара, Вера, Анна, Анна, Анна, Варвара, Елизавета, Надежда, Аграфена, Любовь, Ольга, Евгения, Александра, Елена».
В тот же альбом Елизаветы Пушкин писал стихи:
Вы избалованы природой;
Она пристрастна к вам была,
И наша вечная хвала
Вам кажется докучной одой.
Вы сами знаете давно,
Что вас любить немудрено,
Что нежным взором вы Армида,
Что легким станом вы Сильфида,
Что ваши алые уста,
Как гармоническая роза…
И наши рифмы, наша проза
Пред вами шум и суета.
Но красоты воспоминанье
Нам сердце трогает тайком —
И строк небрежных начертанье
Вношу смиренно в ваш альбом.
Авось на память поневоле
Придет вам тот, кто вас певал
В те дни, как Пресненское поле
Еще забор не заграждал.
С Екатериной же все было по-другому. Пушкин не писал ей всякой дури, а, напротив, оказывал нежные знаки внимания. А если писал, то совершенно другие стихи:
Когда я вижу пред собой
Твой профиль, и глаза, и кудри золотые,
Когда я слышу голос твой
И речи резвые, живые —
Я очарован, я горю
И содрогаюсь пред тобою,
И сердцу, полному мечтою,
«Аминь, аминь, рассыпься!» – говорю.
Общество было заинтриговано. Одна москвичка примечала в дневнике о сестрах Ушаковых: «Меньшая очень хорошенькая, а старшая чрезвычайно интересует меня, потому что, по-видимому, наш знаменитый Пушкин намерен вручить ей судьбу жизни своей, ибо уже положил оружие свое у ног ее, т. е. сказать просто, влюблен в нее. Это общая молва, а глас народа – глас Божий. Еще не видевши их, я слышала, что Пушкин во все пребывание свое в Москве только и занимался, что N., на балах, на гуляньях он говорит только с нею, а когда случается, что в собрании N. нет, Пушкин сидит целый вечер в углу, задумавшись, и ничто уже не в силах развлечь его… Знакомство же с ними удостоверило меня в справедливости сих слухов. В их доме все напоминает о Пушкине: на столе найдете его сочинения, между нотами „Черную шаль“ и „Цыганскую песню“, на фортепьянах его „Талисман“… В альбомах несколько листочков картин, стихов и карикатур, а на языке вечно вертится имя Пушкина».
Увы, судьба распоряжается иначе. Пушкин едет в Петербург, там забывает свою даму сердца, увлекается Анной Олениной, делает ей предложение, но получает отказ. Екатерина тоскует в Москве. По словам Елизаветы, «она ни о чуем другом не может говорить, кроме как о Пушкине и его сочинениях. Она их знает все наизусть, прямо совсем рехнулась».
Пушкин несется в Москву, к Ушаковой. Пишет стихи, чтобы вручить при встрече:
Я вас узнал, о мой оракул!
Не по узорной пестроте
Сих неподписанных каракул;
Но по веселой остроте,
Но по приветствиям лукавым,
Но по насмешливости злой
И по упрекам… столь неправым,
И этой прелести живой.
С тоской невольной, с восхищеньем
Я перечитываю вас
И восклицаю с нетерпеньем:
Пора! в Москву! в Москву сейчас!
Здесь город чопорный, унылый,
Здесь речи – лед, сердца – гранит;
Здесь нет ни ветрености милой,
Ни муз, ни Пресни, ни харит.
Все должно было сработать безотказно. И что же?
Племянник Екатерины Николаевны рассказывает: «При первом посещении пресненского дома узнал он плоды своего непостоянства: Екатерина Николаевна помолвлена за князя Д-го. „С чем же я-то остался?“ – вскрикивает Пушкин. „С оленьими рогами,“ – отвечает ему невеста. Впрочем, этим не окончились отношения Пушкина к бывшему своему предмету. Собрав сведения о Д-ом, он упрашивает Н. В. Ушакова (отца сестер – АМ.) расстроить эту свадьбу. Доказательства о поведении жениха, вероятно, были очень явны, потому что упрямство старика было побеждено, а Пушкин по-прежнему остался другом дома».
Есть, впрочем, еще одна версия – дескать, на в первый, ни во второй раз Пушкин серьезно в Ушакову не влюблялся – все это были шалости очаровательного негодяя и любимца общества.