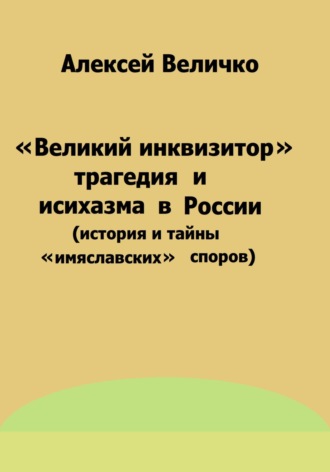
Алексей Михайлович Величко
«Великий инквизитор» и трагедия исихазма в России (история и тайны «имяславских» споров)
Действительно, для чего нужна строжайшая дисциплина в духе устава монастыря прп. Иосифа Волоцкого, иерархия и чинопочитание, если какой-то «лапотный мужик» волен в своем мистическом безмолвии, носит Христа в сердце как дар «Иисусовой молитвы», свободен духом?! Разве «Великий инквизитор» может снести такое отклонение от «порядка и дисциплины»?! Лишь в отдельных местах России тлели огоньки «Иисусовой молитвы», иногда вспыхивавшие довольно ярко и часто – как в случае с возрождением Оптиной пустыни, появлением института «старчества», таких светочей Православия, как прп. Серафим Саровский, прп. Серафим Вырицкий, о. Иларион и о. Антоний (Булатович).
Надо сказать, что и в простом народе исихасты не пользовались большой любовью, несложно понять, почему: толку с молитвенников было немного, разжиться у них – нечем. Впрочем, не жаловал наш народ и «иосифлян», вполне обоснованно опасаясь их, богатых земельных собственников, соседства. Официальные данные свидетельствуют, что в XVII столетии у духовенства было в собственности около 2 млн десятин земли (пашни крепостных крестьян, попов, монастырская земля). Для сравнения: пашня бояр и помещиков охватывала 7,8 млн десятин, пашня дворцового ведомства составляла 1,2 млн десятин, а прочих владельцев (государственных крестьян, военнослужащих и горожан) – 1,3 млн десятин. Таким образом, пашня духовенства составляла 16% всех пахотных земель.
Не менее характерны и другие статистические данные. Так, по 739 церковных организации (монастыри, архиерейские дома, соборы) имели 150 тысяч дворов крепостных крестьян, что составляло 1,4 млн человек или 16% всех крепостных крестьян или 13% населения России. Только Троице-Сергиева лавра имела 18,5 тысяч домов или 180 тысяч душ. Помимо барщины крестьяне платили владельческие повинности натурой и деньгами. Так, в частности, суздальский Покровский монастырь в 1620-х гг. брал ежегодно с каждого двора по 200 яиц, 0,5 пуда масла, овчину, 0,5 четверти хмеля, 0, 25 четверти конопли, сажень дров44.
Отдельно коснемся имущества нашего священноначалия. К концу XVII в. за архиереями числилось 37 тысяч дворов и 440 тысяч крестьян. Разумеется, речь здесь идет лишь о лицах мужского пола, будущих «ревизских душах», не считая членов их семей45. Из них 8700 дворов с население почти 27 тысяч мужского пола числилось непосредственно за патриархом, за четырьмя митрополичьими кафедрами было закреплено 12 тысяч дворов, и за остальными одиннадцатью – 16 тысяч крестьянских дворов. Доход патриарха составлял более 30 тысяч рублей в год, не считая натуральных продуктов. Пашенные владения духовенства составляли 2 млн десятин земли, или 16% всего земельного фонда России46.
В документах 1686 и 1687 гг., т.е. после всех запретов на приобретение монастырями и епархиями земель, приводятся данные о числе церковных, архиерейских и монастырских крестьян, которых насчитывается 118 тысяч человек мужского пола. Или, в процентном выражении, более 13% от общего числа крестьян-мужчин (888 тысяч человек). Из них более 20 тысяч непосредственно было приписано к архиерейским дворам. «От государственного организма, так сложившегося, – писал историк В.О. Ключевский, – несправедливо было бы ждать желательного роста политического, экономического и нравственного»47.
И если сам прп. Иосиф Волоцкий являл пример сурового и требовательного в первую очередь к себе самому постника, то победившая партия «иосифлян» далеко не всегда придерживалась аскетических идеалов своего прародителя. И то, что до момента секуляризации церковных земель при императрице Екатерине II (1762-1796) монастыри и архиереи снискали не самую добрую славу первого крепостника России, едва ли можно отнести к духовным достижениям Русской церкви. Напомним, что по указу 1764 г. о секуляризации монастырских земель было отобрано и передано в казну более 8 млн десятин земли, а более 2 млн крестьян духовенства были освобождены от крепостной зависимости48.
Не удивительно, что сохранилось множество свидетельств тому, как в эпоху «Святой Руси», которую мы так любим воспевать, очень часто именно монастыри становились объектами разбойных нападений местных крестьян и … белого священства.
Так, в ночь с 5 на 6 марта 1550 г. на монастырь преподобного Адриана Пошехонского напали крестьяне села Белого, вооруженные мечами, копьями, стрелами и луками во главе с местным священником по прозвищу «Косарь». Обнаружив преподобного, крестьяне накинули ему веревку на шею и повели в келью, где прижигали тело каленым железом, наносили ножевые раны и т.п., выспрашивая, где тот хранит монастырские богатства, а после мучительно убили. После этого начался погром уже всей обители. Русские крестьяне ворвались в алтарь через Царские врата, вытащили молящихся в нем монахов и беспощадно избили, причем старца Давида забили насмерть. Из монастыря забрали все, что представляло хоть малейшую ценность.
Преподобный Иов Ущельский погиб 5 августа 1628 г. в своем монастыре на реке Мезень Архангельской области, его участь разделил преподобный Агапит Маркушевский, основатель обители на реке Маркуше в Вологодском крае. Убийцами были местные жители. Преподобный Симон Воломский принял 12 июля 1641 г. мученический венец за свою обитель от рук опять же местных крестьян, которые, издеваясь, вначале рассекли его тело ножами, а потом отрубили голову. И таких эпизодов в «Житиях» встречается великое множество49.
В итоге, полностью солидаризируясь с нашим церковным строем, русские монастыри были далеки от практики «умного делания». Как для наших архиереев, так и для самих иноков, монашество и монастыри являлись, пожалуй, лишь специфическими субъектами общего социального служения Церкви. Что ж удивляться тому, что архиепископ Антоний (Храповицкий), как истинный наследник иосифлян пекущийся об «общем благе», пестующий идеал гуманистического «общественного служения» Церкви, «идеал деятельного альтруизма», стал первым врагом «имяславцев»?!50.
V
Так формировался наш внутренний церковный строй, где епископат не имел органической, живой связи с монашеством, был далек от исихастской практики «Иисусовой молитвы», «живоначальной» для восточной монашеской традиции, а монашество стремительно вырождалось в орган социального призрения Московского государства. Под стать себе и свое мировоззрение русский епископат определял и наиважнейшие задачи, среди которых культура, образование, просвещение занимали далеко не приоритетное место.
Откровенно опасливое отношение к культуре демонстрировал, в частности, все тот же архиепископ Никон (Рождественский). В другой, не менее знаковой статье «Гипноз всеобщего обучения», он отливал в металл изобретенную им же «вечную формулу»: «Для жизни не столько нужно обучение, сколько воспитание»51. Принимая даже во внимание его вполне резонные слова о том, что обучение без воспитания нередко приводит ко злу, нельзя не заметить, что знания, как таковые, он не ценил.
Вообще, читая его статьи, невольно ловишь себя на мысли о том, что Рождественский, безусловно, любил своего читателя, русского человека, христианина (но только его!). И еще вопрос – как любил? Как Христос, Который назвал Своих апостолов «друзьями» (Ин.15:15)? Нет, конечно, как малых детей: увещевая и воспитывая, отдавая при этом себе отчет в собственном превосходстве. Если те слушаются – их можно похвалить, нет – следует наказать. В любом случае, ни о каком равенстве между ним и прихожанами речи быть не может, он рядом, конечно, со своей паствой, но не близок ей. Здесь есть воспитание – наверное, но совсем нет любви к человеку, которую заменяет страсть к идеалу общественной жизни, который Рождественский выстроил в своем сознании и стремился реализовать на практике.
В этом отношении он был типичной фигурой для священноначалия нашей Церкви, да и в целом русского священства. В.В. Розанов как-то с горечью отмечал, что наше духовенство не знает (иначе, как формально, школьно, схоластически) литературы и философии, и вовсе не интересуется религиозными вопросами, волнующими «внешний» (для духовенства) мир. Да и вообще духовные лица имели обыкновение ограничивать общение «своим» кругом: «Они все вместе слежались в ком твердый и непроницаемый. В глубочайшем, в душевном смысле – мы просто не существуем для них, как в значительной степени – и они для нас. Печально, но истинно»52.
Вглядевшись в лица наших архипастырей, нельзя не заметить, как за спинами храповицких и рождественских, страгородских и жадановских возвышается вбирающая их в себя тень «Великого инквизитора» в живом и художественном написании ее великим Ф.М. Достоевским. С теми же идеалами и методами действий, где главная мысль звучит так: «Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за Тобой. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом. Но человек слаб и подл. Мы исправили Твой подвиг и основали его на чуде, тайне и авторитете. У нас все будут счастливы. Мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся»53.
При таком отношении к пастве культура, образование и просвещение действительно не нужны. А потому, покровительствуя quasi-ученому монашеству, Синод не предпринимал никаких мер к формированию монашества просвещенного, образованного, хотя имел для этого все необходимые средства. Не удивительно, что текущая деятельность Святейшего Синода касалась в основном второстепенных дел. Например, бракоразводные дела стояли чуть ли не на первом месте по объему рассматриваемых материалов. Если в Синод и попадали иногда «свежие» лица, их едва ли не открыто называли «беспокойными прожектерами» и по возможности скоро избавлялись54.
«Наши епископы, заседающие в Святейшем Синоде, – горячо писал Н.А. Бердяев, – давно перестали интересоваться религиозными вопросами по существу. Что им за дело до того, присутствует ли реально Сам Иисус в имени «Иисус» или имя есть лишь условный и посредствующий знак. Святейший Синод объявил ересью именеславство за беспокойство, причиняемое людям, давно отвыкшим от всякой духовной жизни и всякого духовного волнения»55.
В духе сложившейся с древних лет традиции вместо образования, просвещения и культуры на первом место у нас стояли дисциплина, послушание и смирение, причем не перед волей Божией, все устрояющей и любящей, а перед авторитетом лица, возвышающегося по церковной иерархии. Разумеется, это положение дел было характерно не только для Русской церкви, но нашего государства и русского общества в целом.
Если власть становится основой общественного строя, ее альфой и омегой, если выше «державного блага», для которого можно и нужно принести в жертву все, нет никакой ценности, то личность, как повсеместное и массовое явление, сформироваться в народе не может. И личную инициативу образованного, мотивированного к действию человека всегда в таком случае заменяет бюрократ – это аксиома социальной жизни. Или, как говорил в свое время В.В. Розанов, «если человеку «верить нельзя», то тут, здесь и там невольно поставишь чиновника»56. С власти все началось, ею же и заканчивается, все возвращается на круги своя…
Чем была обусловлена такая тяга к слепой дисциплине и безусловному, слепому послушанию? Вопрос далеко не праздный, но не имеющий однозначного и простого ответа. Конечно, в значительной степени традициями, среди которых тяга к богословскому спору, уважение к чужому мнению никогда не занимали первенствующего места в России57. Несомненно также, чрезвычайно низким уровнем культуры и образования в обществе, грубыми, домостроевскими» нравами.
Протоиерей Георгий Флоровский как-то горестно констатировал: «Наше понимание Церкви не идет дальше «обычаев» и «традиций». Не является ли богословие просто роскошью для небольшого количества «умников», которые являются не «элитой», а скорее группой мечтателей «со странностями»? Священство и миряне в настоящий момент не знают, зачем вообще нужна «христианская культура». Разве не являются «русский мужик» и старая няня истинными «хранителями веры?»58.
Мы привыкли говорить применительно к Церкви о традиции, но последняя можем вырасти лишь в том случае, когда христианское общество, все и каждый, нечто «культивирует», отбирает лучшее, передавая это, как драгоценное наследство, из поколения в поколение. Если же культуры нет, если ничто не отбирается в копилку народной нравственности, то вянет и традиция, превращающаяся в «соляной столп» статичной формы, «мертвую букву», «русского мужика» и «старую няню», которых следует сохранять и сберегать. Это и есть – «истина», которая уже понята и открыта, познавать больше нечего. Помноженная на силу государственного и архиерейского авторитета, скрепленная цементом власти, выданная за «русскую самобытность», такая «истина» становится чугунным ядром на ноге человека, способном его утопить в собственных заблуждениях.
Беда, однако, заключалась даже не столько в самом факте возобладания у нас не братских, а сугубо административно-церковных отношений, сколько в том, что этот строй, исторически образовавшийся под влиянием различных негативных причин, был, по сути, канонизирован. «Временные и случайные социальные отношения стали рассматриваться, как выражение божественного порядка. Истина оказалась данной и воплощенной. Должно только охранять существующие воззрения, оправдывать устоявшиеся порядки. Но охранять жизнь от развития, от движения – это задача омертвения»59. Так и хочется вслед этому ловами повторить слова о. Александром Шмемана: «У нас всегда так – или «апостазия», или же тогда истерический «максимализм». Не дается, не дается русским «свет разума»»60.
Если нет желания познать истину, если она держится лишь архиерейским повелением или привычкой, то, разумеется, единственным способом сохранения существующего церковного строя становится именно «дисциплина и порядок». Впрочем, как показывают исторические события, и то до поры-до времени. Историк и публицист М. П. Погодин некогда справедливо утверждал: «Объявите свободу совести, – ну половина православных крестьян и отойдет, пожалуй, в раскол, потому что не понимает Православия и увлечется выгодами, которые им предложат раскольники, также не понимающие сущности веры»61. Разве он был неправ?







