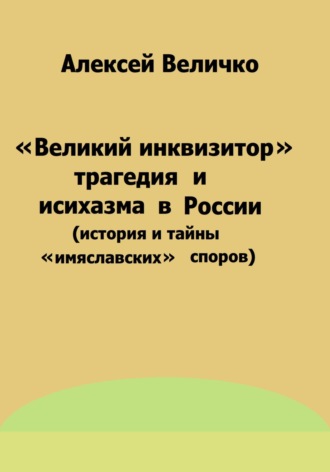
Алексей Михайлович Величко
«Великий инквизитор» и трагедия исихазма в России (история и тайны «имяславских» споров)
Впрочем, эта «пиррова победа» не долго грела самолюбие храповицких и рождественских. Если вначале Государь не вмешивался в эту грязную историю, то уже летом 1913 г. под влиянием общественного мнения он принял активное участие в судьбах «имяславцев». Причем сделал это весьма корректно и объективно. Вначале был выслушан доклад обер-прокурора Синода В.К. Саблера, затем Государь принял «имяборцев» из числа оставшихся на Афоне монахов, горячо благодаривших его за спасение русского монашества от «ереси». Однако при встрече он неожиданно для тех заявил, что хотя сам и не читал еще книги о. Антония (Булатовича), но помнит его, как храброго и честного офицера. Из чего уже можно было сделать некоторые неприятные для «имяборцев» выводы. Вслед за тем, зимой 1914 г., Государь принял в Царском Селе депутацию монахов-«имяславцев». Он был глубоко тронут их рассказами о воздвигнутых на исихастов гонениях и пообещал, что вопрос об «имяславии» и судьбах несчастных афонитов разрешит Церковный Собор, который должен собраться в самое ближайшее время.
Как и следовало ожидать, Святейший Синод мгновенно отреагировал на внешние перемены. Впрочем, справедливости ради, кипучая деятельность Рожественского объективно и так вызвала у многих его членов легкое потрясение. Уже на следующий день после приема у Государя, 14 февраля 1914 г., Синод издал Определение о 25 афонитах- «имяславцах», поручив Московской Синодальной конторе под председательством митрополита св. Макария (Невского) рассмотреть их дела в порядке церковного судопроизводства. Правда, еще один «имяборец» митрополит Владимир (Богоявленский) выступил резко против такого решения, но данном случае В.К. Саблер, почувствовав настроение Государя, сумел его «аппаратно» переиграть.
Все общество замерло в ожидании грядущего судебного процесса. К весне 1914 г. многие подсудимые стали съезжаться в Москву, хотя о. Антоний (Булатович) и еще 12 монахов отказались предстать перед судом, считая себя невиновными. Вместо этого в своем письме Государю о. Антоний (Булатович) предлагал создать специальную двухстороннюю комиссию для богословского разрешения спора, а 11 апреля, не получив ответа, официально заявил о своем разрыве с Синодом. Остальные монахи поддержали его12.
События принимали уже крайне неблагоприятный, просто скандальный для гонителей исихастов оборот. Их положение стало еще более удручающим, когда на фоне общественной критики В.К. Саблер получил 15 апреля 1914 г. записку от Государя, в которой тот, выразив глубокое сожаление по поводу минувших событий, назвал Имя Божие «величайшей святыней», а затем без обиняков приказал обер-прокурору разместить всех опальных иноков по монастырям, вернув им священнический сан, у кого он был, и монашество.
Почти одновременно с этим Государь направил письмо митрополиту св. Макарию (Невскому), в котором изложил свое мнение об «имяславцах» – самое благоприятное, какое можно было представить. Делать нечего – выполняя Государеву волю, Синод спешно рассмотрел вопрос об «имяславцах» на заседаниях 22-25 апреля того же года и вынес некое компромиссное решение, предписав Московской Синодальной конторе не требовать от афонитов письменного подтверждения своего православного вероисповедания, если те готовы устно засвидетельствовать его.
На суде, где, правда, предстали далеко не все «имяславцы», все выглядело так, что их не судят, а оправдывают. Разумеется, противники, заслушав рассказ о судебном процессе в исполнении еще одного «имяборца» архимандрита Арсения (Жадановского), присутствовавшего там, были возмущены и смущены одновременно. Идти против воли Государя было для Синода невозможно, но и публично изобличать себя преступниками против Церкви первоиерархам не хотелось.
Их положение еще более осложнилось после приезда из Санкт-Петербурга епископа Модеста (Никитина), где тот беседовал с о. Арсением (Булатовичем) и удостоверился в его православии. Конечно же, его письменный отчет вызвал бурю негодования у архиепископа Никона (Рождественского), который требовал от своих товарищей по Синоду идти до конца. Но синодалы, не отличавшиеся смелостью духа, приняли новое Постановление, в котором разрешили монахам ношение рясы, хотя без допущения к священнослужению и Святым Таинствам. Результат вышел нелепым: те иноки, которые обращались в Московскую Синодальную контору, т.е. к митрополиту св. Макарию (Невскому), получали полное восстановление своего имени и сана. У остальных сохранялось поражение в правах. Правда, Синод так и не решился опубликовать свое Постановление – еще один «мазок» к характеристике его членов13.
Однако и после этого о. Антоний (Булатович), а вместе с ним несколько наиболее твердых его единомышленников, не согласились восстанавливать отношения с Синодом, чем вызвали очередную вспышку архиерейского гнева. В качестве «ложки меда» для Синода в это же время с Афона пришло послание от архимандрита о. Мисаила и «собора братьев» Св. Пантелеимонова монастыря, в котором те благодарили архиереев за избавление их от «революционеров» и умоляли не разрешать «имяславцам», восстановленным в сане, возвращаться на Святую Гору.
Ситуация стала не просто запутанной, хаос покрыл собой не только Русскую церковь, но и все общество. Все были недовольны Синодом – одни его нежеланием до конца бороться с «имяславцами», не взирая «на лица»; другие – косностью и жестким администрированием. Примечательно, что хотя общественное мнение и Государь открыто выступили в поддержку исихастов, лагерь «имяборцев» не претерпел никаких видимых неудобств. Даже деятельное участие многих депутатов Государственной Думы, желавших внести ясность в минувшие события и наказать виновных в избиении русского Афона, не принесло результата: никто из преследователей исихастов не пострадал, не был лишен должностей и наград.
Но это были уже последние страницы трагичной истории. Решить вопрос более определенно не позволила Первая Мировая война, внесшая свои суровые коррективы. Не дал окончательную оценку «имяславию» и Поместный собор 1917-18 гг., который, по словам твердого «имяславца» М.А. Новоселова «был так далеко от существа вопроса, так мало заинтересован в нем, что просто «сдал его в комиссию», чтобы просто спихнуть со своих плеч эту все же неприятную мелочь, из-за которой кто-то ссорится и беспокоит членов Синода своими обращениями» 14.
Можно, конечно, было бы сказать (и это сравнение неоднократно произносится вслух), что борьба с «имяславием» являла собой своеобразное продолжение спора св. Григория Паламы с Варлаамом, Алексеем Акиндином и Никифором Григорой (так называемые «Паламитские соборы» 1341, 1347, 1351, 1368 гг.). Однако ни Григоры, ни Варлаама на российской почве уже не было, равно как и богословского спора, который вполне традиционно для нас заменили административные меры…
II
Кратко напомнив хронологию и ход событий, перейдем к интересующим нас аспектам. Как уже отмечалось выше, бросается в глаза невероятно слабая по содержанию аргументация, приводимая «имяборцами», а нередко и искусственная профанация учения «имяславцев» в их исполнении. Уже М.Д, Муретов, разбирая рецензию о. Хрисанфа (Минаева) и, надо полагать, попутно записку архиепископа Антония (Храповицкого), отмечал, что апологет о. Илариона (Домрачева), т.е. Булатович, «далеко не невежественен», напротив, «полное невежество и непонимание дела на стороне рецензента»15.
Нельзя не заметить и того открытого пренебрежения, которое открыто демонстрировали представители нашего священноначалия и члены Святейшего Синода, не утрудившие себя анализом текстов «имяславцев». Многие исследователи исихастских споров обращают внимание на то, что в своем докладе Святейшему Синоду архиепископ Антоний (Храповицкий) намеренно исказил «имяславское» учение и довел мысли о. Антония (Булатовича) до абсурда и карикатуры16.
Весьма характерно, что Храповицкий не только не читал книги «На горах Афона», но не изучал и труды о. Антония (Булатовича); вообще возникает небезосновательное ощущение, что ему и до их прочтения «все было ясно». Не удивительно, что его доклад на заседании Святейшего Синода, по словам митрополита Вениамина (Федченкова), «недопустимый, бранчливый, ужасный, поверхностный и ругательный», мог только оттолкнуть верующего человека, а не привлечь к правильному пониманию дела17.
Однако здесь следует сделать важную оговорку: низкий уровень критики и ее культуры различные оппоненты «имяславцев» демонстрировали по сугубо разным причинам. Если, как мы покажем ниже, для архиепископа Антония (Храповицкого) в значительной степени это было обусловлено тактическими, «аппаратными» соображениями и личной неприязнью к исихастам, дерзнувшим коснуться вопросов догматики и спорить с ним, то о. Хрисанф (Минаев) и другие второстепенные оппоненты выполняли роль «загонщиков» грядущей охоты на «имяславцев». К таковым смело можно отнести и о. Хрисанфа Григоровича, в статье которого, появившейся в Санкт-Петербургском журнале «Миссионерское обозрение» в самом начале 1913 г., содержался вывод о том, что вопрос о значении Имени Божия относится к области теории познания (!), а потому для его решения следует руководствоваться «трансцендентальной логикой»18.
С ними и такими же по уровню образования рецензентами все довольно просто. Есть все основания согласиться с таким кратким замечанием Флоренского, что для них «противоречит учение об Имени не «православной догматике», конечно, а «нас учили»»19.
Но если аргументы, приведенные монахом Хрисанфом и о. Климентом – первыми обвинителями исихастов, еще вполне коррелируют с их именами, безвестными в науке, и более чем «средним» по уровню интеллектом и академической подготовкой, то об остальных рецензентах такого, конечно, не скажешь.
Архиепископ Антоний (Храповицкий), один из виднейших богословов России начала XX столетия, не нуждается в представлении. Киевский митрополит Владимир (Богоявленский) преподавал литургику, гомилетику и немецкий язык, последовательно занимая все митрополичьи кафедры в Русской церкви; доктор богословия с 1915 г. А другой ревнитель «имяборчества» о. Алексий (Киреевский) успешно закончил в свое время Московский университет.
Среди лиц, не принявших «имяславие», есть и другие ученые мужи, которых никак не отнести к разряду «профанов» богословия. Например, митрополит Георгий (Ярошевский), который ранее преподавал в Таврической, Тульской и Могилевской семинариях, а в 1910 г. был назначен ректором Санкт-Петербургской духовной академии. Вслед за ним идет архиепископ Стефан (Архангельский), в 1912 г. получивший степень доктора богословия. Другой иерарх – епископ Алексий (Дородницкий) в 1905 г. стал ректором Казанской духовной академии. Ему же, к слову, принадлежит первая попытка отделить Украинскую церковь от Москвы в 1917 г. Упомянем митрополита Михаила (Ермакова), закончившего Киевскую духовную академию и являвшегося в разные годы ректором Волынской и Могилевской духовных семинарий. Архиепископ Агапит (Вишневский), еще один сторонник украинской автокефалии, также являлся выпускником Киевской духовной академии.
Почему все они выступили против «имяславцев»? Едва ли все и всех можно объяснить одним словом. Некоторые, безусловно, руководствовались корпоративными соображениями, другие поддались авторитету Храповицкого и Рождественского, третьих возмутил сам по себе факт «непослушания» исихастов епископам, но многие, безусловно, просто искренне не понимали, какой смысл вкладывают «имяславцы» в «Иисусову молитву» и почему так отстаивают Божественность Имени Божьего.
Кажется невероятным, но именно значение «Иисусовой молитвы» для духовного состояния человека оказалось недоступным для сознания подавляющего числа критиков исихазма из числа архиереев и их помощников из лагеря «имяборцев». Так, Григорович смело утверждал, что «молитва есть смена субъективных состояний человека, обусловленных теми или иными психологическими факторами». Тезис о «психологизме» молитвы отстаивали и многие другие противники «имяславия», включая, разумеется, архиепископа Антония (Храповицкого), который понимал молитву как преодоление духовного одиночества20. Архиепископ Сергий (Страгородский), вполне разделяя эти взгляды, также утверждал (по крайней мере, публично), будто молитва есть субъективное переживание молящегося лица. Рядом с указанными рецензентами стоит известный публицист (пусть и не богослов) и архиепископ Никон (Рождественский), который привычно учил, будто молитва – суть совокупность субъективных переживаний, не более того. Потому, согласно его «учению», и Имя Божие есть условное слово, «почти тоже, что в математике идеальная точка, круг, в географии – экватор, меридиан и подобное», т.е. суть продукт человеческого мышления 21.
Бледность такого понимания молитвы вступала в резкий диссонанс с учением исихастов, согласно которому «молитва во Имя Христа Спасителя, действуемая во смирении, покаянии, сердечном сокрушении и чистом помысле, соединяет с Ним нашу душу и, находясь в центре, или, что то же, составляя корень и основание духовной жизни, дает человеку возможность не только видеть, но и содержать, как бы в объятиях духовную жизнь во всей ее полноте и необъятных пространствах, в ее таинственных глубинах и неисследованных пучинах, потому что здесь от единения с Господом подаются человеку все Божественные силы, непосредственно черпаемые из Самого Источника»22.
Все же, абстрагируясь от чинов и ученых степеней, нельзя не отметить, что в среднем интеллектуальный уровень нашего священноначалия был крайне неровным, мягко говоря, а порой и совсем уж невысоким. Что нередко приводило их к прямо противоположным выводам. Так, в одной из своих многочисленных антисемитских статей архиепископ Никон (Рождественский), «богословски» обосновывая свое убеждение, будто иудеям непозволительно иметь христианские имена, утверждал уже нечто иное, что доказывал в это же самое время в обвинениях «имяславцев». «Имя есть нечто священное. Имя не есть №, под которым разумеется тот или иной экземпляр, та или другая особь: имя может принадлежать только человеку как разумнонравственному существу. Угодник Божий, имя которого я ношу, есть мой небесный восприемник. Это – мой благодатный покровитель. Вот почему для нас, православных христиан, особенно дороги те имена, которые мы носим. Это – священные символы нашего духовного родства с небесною Церковью»23.
В этой связи едва ли можно назвать Рождественского (задержимся немного на этом активном и идейном гонителе исихастов) последовательным в своих суждениях, да и в целом ученым мужем. Священник Павел Флоренский справедливо обращал внимание на очевидные «ляпы» в статье архиепископа «Великое искушение около святейшего Имени Божия»: «Называет Имя святейшим, а немного далее говорит, что оно есть «условное» слово, «необходимый для нашего ума условный знак», «реально вне нашего ума не существующий образ («идея»). Если так, то как же называть святейшим? Ясно, что это или привычная для семинара риторика, или Иудино целование. Поэтому все дальнейшее, сказанное о трепете сатаны пред именем, – пустословие» 24. Впрочем, это был далеко не единственный пример на сей счет.
Так или иначе, но за исключением очень немногих архиереев, поддержавших «имяславцев», влияние которых, однако, являлось весьма и весьма ограниченным – епископ Феофан (Быстров), епископ Гермоген (Долганов), экзарх Грузии архиепископ Алексий и некоторые другие, – остальной епископат выступил против исихастов25.
В целом следует с прискорбием сказать, что ни личностно, ни по деловым качествам значительнейшая часть наших архиереев не подходила для решения многочисленных проблем, стоящих перед Русской церковью в те годы. Развернутую характеристику одного видного русского иерарха давал современник тех событий протопресвитер Георгий Щавельский. Описывая митрополита Владимира (Богоявленского), отмечая его честность, простоту и скромность, он прямо утверждал, однако, что тот совсем не подходил для своего поста первенствующего члена Синода. Не отличавшийся умом, кругозором, широтой взглядов и организованностью, «узкий консерватор» по своему характеру, митрополит проводил заседания запутанно и нудно. Не удивительно, что он не пользовался уважением ни у архиереев, ни в царской семье, ни в народе26. Кажется, остальные члены Синода не превосходили его по своим характеристикам…







