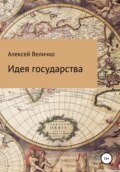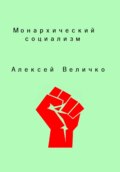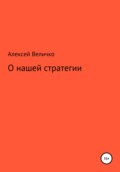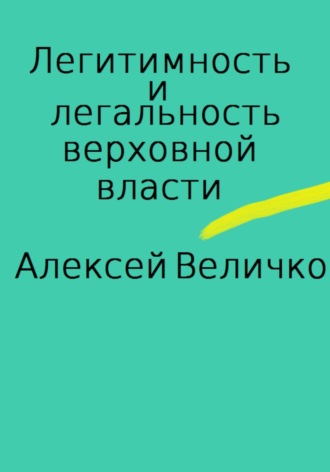
Алексей Михайлович Величко
Легитимность и легальность верховной власти
Сохранилась она и сегодня. В частности, перед вступлением в должность, согласно статье 82 Конституции РФ, Президент РФ приносит присягу, в которой клянется охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию, защищать суверенитет и независимость России, безопасность и целостность государства, верно служить народу.
VIII
«Власть не извлекает моральную легитимность из себя самой» – это истина, которую едва ли возможно опровергнуть58. И если все формальные критерии, даже если они установлены законом, сами по себе не порождают легитимности верховной власти, то, спрашивается, в силу каких обстоятельств власть монарха признается обществом?!
Конечно, коронация, помазание елеем, наследственность по мужской линии и т.п. – все эти факторы играют важную роль для подтверждения легитимности власти. Однако, все же, она основывалась не на формальном законе или правовом обычае (т.е. на принципе легальности), а на религиозно-нравственных убеждениях всего общества, что именно этот носитель власти праведен, верен Богу и подданным, добродетелен, мужественен, а потому достоин стать царем. И потому древняя формула гласит следующее: «К королевскому служению в особенности относится управление и царствование над народом Божиим с беспристрастием и справедливостью, а также попечение о мире и согласии. Сам же король должен, прежде всего, должен быть защитником Церкви и слуг Божиих, вдов, сирот и других бедных, а также нуждающихся»59.
Общество желало видеть в своем правителе справедливого царя, защищающего их права и отстаивавшего правду. А потому, к слову сказать, первоначальной формой проявления государственного властвования был не закон, а судебное решение. «Древние цари являлись прежде всего судьями, а не законодателями. Первоначально высшей функцией власти считалось именно отправление правосудия»60. И великий Цицерон (106-43 до Р.Х.) свидетельствовал, что издревле «все вершилось царским судом», и лишь попутно цари творили законы61.
По представлениям современников тех древних веков, государство являло собой «ковчег спасения», новый Израиль, заселенный избранным Богом народом, Церковь, которой руководят добродетельные государи. Поэтому политическая элита и лучшие люди народа соучаствуют монарху в управлении государством каждый на своем месте, все они по-своему причастны к его служению («ministerium regale»)62.
Хотя, разумеется, служение царя несопоставимо выше и значимее: «Справедливость короля – мир для народов, защита для отчизны, свобода для жителей, опора для рода, утешение для больных, радость для людей, мягкость для погоды, спокойствие для моря, плодородие для почвы, отрада для бедных, наследие для сыновей, а для самого короля – надежда на будущее блаженство»63.
На основе этих убеждений формировались требования к личности царя и образу его действий. Уже в VI в. на Западе возник термин «honor», описывающий отношения подчинения. Первоначально он возник в церковной среде и предполагал некое обязательное предварительное посвящение. Позднее он преобразовался в понятие «honor regni», которое хотя и не имело четкого юридического содержания, но было синонимично понятиям «достоинство», «честь», «воинская отвага», «мужество». Предполагалось, что обладатель высшего звания должен следовать определенной модели поведения, правилам и традициям, существующим в близких к нему кругах общества. Отступнику же, усвоившему чужие обычаи в ущерб собственным, грозило «бесчестье» (dehonestatio), потеря трона. «Honor regni» предполагал также, что его обладатель обязан принимать решения, имеющие отношение к организации власти и управления; это и есть «королевское достоинство». «Нonor» короля распространяется на всю подвластную ему территорию, его чиновников и судей – все они лишаются своего достоинства, если берут взятки и творят несправедливость, а потому подлежат наказанию вплоть до смерти.
Императорская власть понималась в эпоху христианской государственности как наиболее совершенная форма правления человеческого общества, как «communitas perfectissima», т.е. некое трансцендентное, а потому как высшее, всеобъемлющее единство, способствующее установлению мира и справедливости между людьми. Как Кафолическая Церковь мыслилась исключительно в единственном числе, так и император мог быть единственным носителем верховной власти во всей Вселенной. Что, впрочем, не исключало попыток со стороны других монархов (Испании, Франция, например) принимать титул «император», но вовсе не для того, чтобы создать конкуренцию единственному императору – Римскому, а чтобы подчеркнуть тождественный ему характер своей королевской власти64.
Материальные критерии для определения легитимности присутствовали, конечно, и здесь. В частности, повсеместно бытовало устойчивое убеждение об избранничестве рода, который давал великих вождей. Так, по древнегерманскому преданию, королевская власть была следствием присущего определенной семье предназначения, которое передавалось из поколения в поколение; и это высокое свойство, по аналогии со священнической харизмой, не исчезало даже в тех случаях, когда венценосец лишался власти. Любопытный прецедент произошел в 1081 г., когда отлученный от Церкви (!) император Генрих IV (1054-1105) проезжал через Тоскану, а крестьяне сбегались на дорогу и старались коснуться его одежд, убежденные в том, что одно лишь только прикосновение обеспечит им добрый урожай65.
Прошли века, но данное убеждение сохранилось и в современной наследственной практике. К примеру, пункт 1 Акта о престолонаследии Королевства Швеции в редакции 1979 г., обязывает наследника престола принадлежать к роду кронпринца Шведского королевства, его королевского высочества принца Иоганна Баптиста Юлия де Понте-Корво (1782-1859).
Статья 85 Конституции Королевства Бельгии установила, что преемник престола должен являться потомком Его Величества Леопольда-Георга-Христиана-Фредерика Саксен-Кобургского (1831-1865).
В соответствии со статьей 24 Конституции Королевства Нидерландов, право на престол передается по наследству и принадлежит законным наследникам Короля Вильгельма I, принца Оранского-Нассау (1579-1584).
Не только личные качества носителя верховной власти, но и его супруги имели непосредственное отношение к вопросу ее легитимности. Поскольку для сознания того времени король представлял собой все королевство, то именно королева несла нравственную ответственность за порядок и спокойствие при дворе. А, следовательно, должна была быть безупречной. Если же королеву подозревали в половой распущенности и прегрешениях, то считалось, что тем самым она дискредитирует идею монаршей власти; результат не медлил сказаться в таких случаях66.
IX
Сказанное налагает на носителя верховной власти особую ответственность за взятое на свои плечи публичное служение. Не удивительно, что уже в глубокой древности возникло убеждение, сохранившееся до наших дней, об императорстве, как «святой службе»67. Потому для наследования верховной власти недостаточно только родства по происхождению или соответствия формальным признакам, «ибо никакие разум, закон, вера или мудрость в мире не могут признать власть людей над обществом, которое не ждет от них ничего хорошего»68.
Лишь в тех случаях, когда монарх основывает свое служение на справедливости, подчиняет свое бытие бесконечной благодати Господа, а желания и поступки – Его воле, «опасаясь действием нанести Ему оскорбление», его власть признается народом легитимной69. В противном случае, как вполне обоснованно считалось, государь восстает против Бога, используя данную ему верховную власть во зло вселенскому миропорядку и обществу, множит грех прародителей, развращая своими действиями природу и человека.
Безусловно, закон является верным орудием справедливости, защищает слабых и сохраняет порядок в обществе, приучая граждан думать не только о собственном интересе, но и об общем благе. До закона, как и до свободы, еще нужно дорасти. И не случайно наш великий мыслитель К.Н. Леонтьев (1831-1891), размышляя о русских пороках, с горечью писал: «Свобода нам вредна, и равноправная легальность едва ли привьется»70.
Однако если закон отрывается от своих сакральных, нравственных основ, то из орудия справедливости он вполне может стать слугой тирании. А это происходит неизбежно в той или иной степени, когда провозглашаются либо идея о народе, как источнике политической власти, либо автократические учения о самодостаточности государства в духе философии Г.В.Ф. Гегеля (1770-1831). При всех различиях эти доктрины объединяет главное свойство – они исключают Бога из социально-политического мира. Ему отводится, в лучшем случае, место «субъективного чувства» или «права на свободу совести». Иными словами, в них Бога – нет…
Но чтобы ставить народную волю выше нравственных категорий, следует доказать, что она является не только «священной», но и абсолютной в своей правоте, на чем некогда настаивал Ж.-Ж. Руссо (1712-1778). Увы, это условие едва ли достижимо, и как замечал выдающийся философ С.Л. Франк (1877-1950), «воля народа», оторванная от Бога, «может быть также глупа и преступна, как и воля одного человека» 71. А что может быть хуже преступного правосознания?! Часто утверждают, что «народ ошибаться не может», а его воля выше «всякой законности». А писатель Фазиль Искандер (1929-2016) парировал, пусть и несколько резковато: «Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа».
Казалось бы, демократическая парламентская республика, «правовое государство», где торжествует закон, играющий роль высшего критерия легитимности власти, создает надежные основания для идеальной политической конструкции. Однако в действительности эти очень общие рассуждения тают на солнце истины со скоростью весеннего снега.
Замечательный германский политолог и правовед Карл Шмитт (1888-1985) некогда справедливо утверждал: когда закон становится высшим и единственным нравственным авторитетом, которому можно и нужно верить, то признается лишь одна реалия – легальность, внешний нравственный авторитет решительно изгоняется прочь. Но ведь за законом стоит все же человек (группа людей, парламент), и, обожествляя закон, мы вновь, как в языческие времена, обожествляем человека, причем именно человека власти. Как здесь не вспомнить слова Римского папы Бенедикта XVI (2205-2013): «Христиане молятся за царя и начальствующих, но не молятся царю»72?!
Как следствие, власть моментально утрачивает свои сакральные, божественные черты и признается результатом столкновения человеческих интересов, трофеем завоевателя, каковой тут же объявляется вместе с тем и законодателем, верховным жрецом общества. Отныне именно он признается гарантом существующего порядка, последним источником всякой легальности и справедливости73.
«Смысл и задачи «легальности» заключаются как раз в том, чтобы сделать ненужными и упразднить как легитимность (и монарха, и всенародного референдума), так и всякий высший авторитет. Если еще и употребляются слова «легитимный» и «авторитет», то только как выражение легальности и нечто производное от нее»74.
Разумеется, Шмитт прав: в этой конструкции все меркнет перед формальным правилом закона, который становится альфой и омегой для оценки любого события или лица. И потому все, что не укладывается в эту форму – нравственность, честь, благородство, все, что не может быть формализовано, отметается такой законностью, как чужеродные ей явления. Присяга может иметь место, но только как юридический акт, с которым связаны правовые последствия, но не нравственные. Важно не содержание закона, а лишь форма, и отсюда сам собой рождается вывод: справедливо и лишь то, что оформлено в виде закона. Все, что не стало законом, справедливым быть не может.
Формируется совершенно пустое понятие легальности, которое нейтрально по отношению к любому материальному наполнению. «Возможность несправедливости упраздняется с помощью простого формального трюка: несправедливость больше не называется несправедливостью, легальная власть уже «в силу такого понятия» не может совершить никакой несправедливости. Притязание на легальность превращает всякое противостояние и сопротивление в несправедливость и противоправность, в «нелегальность»75.
Какая легитимность может родиться из этой правовой конструкции? Очевидно, никакая, все вбирает в себя, как «черная дыра», пустая форма, поглощающая нравственную материю окружающего мира. Но именно в этом свойстве сторонники легальности видят преимущества плода своего творчества. «Борись за свое понимание справедливости, бейся за свою законность и легитимность!» – вот лозунг, который развевается над их головами, как знамя. Не говоря уже о том, что гимн личной нравственности становится похоронной песней любой идеи общественной солидарности – ведь каждый борется в данном случае за себя, – его доминирование в общественном сознании означает категорический отказ от любого абсолютного авторитета извне. Но «если Бога – нет, то все можно»; общество разрушается в безнадежных поисках «усредненной» и устраивавшей всех нравственности, и остановить этот процесс распада способна только тирания верховной власти, поставившая на место Бога саму себя76.
Напротив, защита от «притязаний на единодержавие» заключается в осознании единственной и самой главной задачи человека – служения правде, что возможно лишь при осознании святости и абсолютности тех нравственных начал, которые даны нам Богом. Только они способны изменить стремление к самодовлеющей, собственной власти со стороны отдельного человека к солидарному союзу всех людей77.