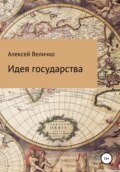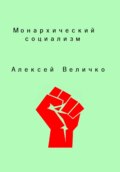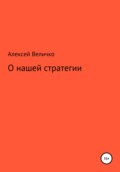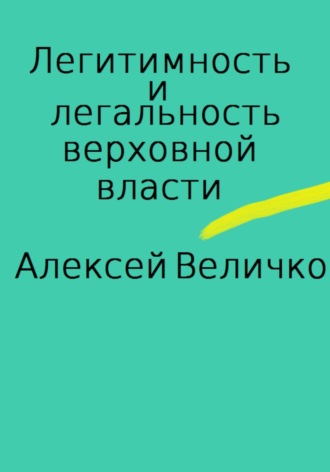
Алексей Михайлович Величко
Легитимность и легальность верховной власти
IV
По древнему преданию, вполне, впрочем, достоверному, знаменитая династия правителей Карфагена возникла вследствие воцарения Анны, сестры легендарной королевы Дидоны, умертвившей себя после потери возлюбленного. Именно после Анны, вышедшей замуж за «некоего короля, чьего имени история не сохранила», власть получил ее потомок Мазей (умер в 535 до Р.Х.), а затем и Магон Великий (535-520 до Р.Х.)11.
Несмотря на этот прецедент, преемственность монаршей власти по женской линии почти нигде не получила устойчивого закрепления, в том числе и в Византии, верной хранительнице древних римских правовых идей и традиций. Характерная история произошла в середине V столетия, когда Западной Римской империи смертельно угрожали гунны. В те дни, воспользовавшись легкомыслием принцессы Гонории (417-452), дочери императрицы Западной империи Галлы Плацидии (388-450), грозный вождь Атилла (434-453) заявил претензии на нее и… территорию Восточной Римской империи, ссылаясь на «права» потенциальной невесты. Однако ему категорично ответили, что женщины царского рода у римлян не наследуют Империи12.
Тем не менее очень часто именно женщина оказывалась тем спасительным «наследственным мостиком», посредством которого столь нужные Византии лица получали права на царство. Так, после смерти императора св. Феодосия II Младшего (408-450) его старшая сестра св. Пульхерия (450-453) избрала своим супругом св. Маркиана (450-457), который стал новым царем13. Таким же способом получил права на корону император Зенон (474-475 и 476-491), муж св. Ариадны (452-515), дочери императора св. Льва I Великого (457-474), не оставившего наследника по мужской линии. Примечательно, что св. Ариадна была признана императрицей не по отцовой линии, а уже как жена императора Зенона. И после его смерти, как законная царица, она привела к трону своего нового супруга Анастасия I (491-518)14.
Император Михаил I Рангаве (811-813) получил власть по негласному праву преемства через свою жену, которая приходилась дочерью покойному императору Никифору I Геннику (803-811) и сестрой умирающему царю Ставракию (811)15.
Множество интереснейших прецедентов дала знаменитая Македонская династия. Как известно, Роман III Аргир (1028-1034) и Михаил IV Пафлогон (1034-1041) стали царями после женитьбы (один вслед за другим) на принцессе Зое (978-1050) – после смерти ее отца Константина VIII (1025-1028) не осталось наследников по мужской линии. Однако попытка законно усыновленного императрицей Зоей Михаила V Калафата (1041-1042) захватить единоличную власть привела честолюбца к трагическому финалу.
Обвинив (разумеется, ложно) свою «мать» в волшебстве, Калафат сослал ее на остров Принца, где несчастную женщину постригли в монахини. Но буквально на следующий день, 19 апреля 1042 г., в столице начались беспорядки, на улицах Константинополя раздался крик: «Не хотим иметь Калафата царем! Верните к власти нашу матушку Зою, урожденную и законную нашу царицу!». В итоге Зоя была призвана на царство (монашеский обет, конечно, был с нее снят) вместе со своей сестрой Феодорой (1042-1056), несмотря на то что та тоже уже несколько лет пребывала в монастыре; а Калафат – ослеплен16.
Как известно, Салический закон, господствовавший во Франции, категорически не допускал наследования по женской линии. Тем любопытнее качественно иная практика Иерусалимского королевства, созданного при живейшем и непосредственном участии французов, где, как правило, женщина наследовала власть при отсутствии наследников-мужчин после смерти короля. Легитимация власти их супругов имела в основании права их венценосных жен. Так, после смерти короля Балдуина V (1178-1186) Гвидо де Лузиньян (1186-1192) получил права на корону только посредством женитьбы на королеве Сибилле (1160-1190), матери покойного государя. Важно отметить, что полномочия нового монарха-консорта считались действительными лишь на период ее жизни17.
Эта деталь особенно ярко проявилась в 1210 г., когда мужем принцессы Марии (1205-1212) и новым королем Иерусалима стал знаменитый рыцарь Иоанн де Бриенн (1210-1212). Но после смерти супруги наследником престола стал вовсе не он, а его малолетняя дочь Иоланта (1212-1228), при которой отец являлся всего лишь регентом. Любопытно, что через 2 года, в 1214 г., он женился на принцессе Стефании Армянской (1195-1220), а потом с 1229 по 1237 гг. являлся императором Латинской империи опять же по женской линии18. Нечасто можно встретить в истории человека, трижды (!) владевшего разными коронами, и ни разу не удержавшего власть по закону, как мужчина.
В 1221 г. «женская линия» Иерусалимского королевства вновь оказалась востребованной – на этот раз для того, чтобы мотивировать императора Фридриха II Гогенштауфена (1220-1250) на новый Крестовый поход путем женитьбы на Иоланте Иерусалимской, титулярной наследнице королевства, а попутно еще и внучке покойного короля Кипра и Иерусалима Амори I (1163-1174). Нехотя, под давлением понтифика, германец все же согласился на брак19. Увы, и он оказался скоротечным: в марте 1228 г. королева Иоланта умерла при родах, даровав жизнь сыну Конраду IV (1228-1254), будущему королю Германии, Иерусалима и Сицилии. Теперь Фридрих Гогенштауфен автоматически поменял статус короля Иерусалима на регента собственного сына, ставшего наследственным монархом Святого города20.
Иногда наличие у женщин наследственных прав приводили к жестким противостояниям между матерью-королевой и наследным принцем. Так, в 1152 г. 20-летний Иерусалимский король Балдуин III (1143-1162), недовольный слишком плотной опекой со стороны царствующей матери Мелизенды (1131-1153), объявил о своем желании короноваться второй раз, но уже единолично. Однако члены Совета Королевства, где было много сторонников Мелизенды, не одобрили этой инициативы. Пришлось делить Иерусалимское королевство на два фактически самостоятельных государства. Лишь спустя несколько месяцев король смог избавиться от матери, как политического конкурента, и завладел единоличной властью21.
Случались и другие, не менее любопытные наследственные комбинации. В 1112 г., Иерусалимский король Балдуин I 1110-1118) решил связать себя брачными узами с Аделаидой Савойской (1072-1118), вдовой покойного графа Сицилии Рожера Отвиля (1072-1101). Аделаида согласилась, но поставила условие: если от их союза с Балдуином не будет детей, то ее сын от предыдущего брака Рожер (1098-1154) получит корону Иерусалимского короля. Балдуин согласился, и в 1113 г. была сыграна пышная свадьба. Увы, вскоре выяснилось, что Римский папа не одобряет этого брака, поскольку Балдуин формально еще не был разведен со своей второй супругой-армянкой. Все закончилось тем, что оскорбленная в общественном мнении и морально сломленная Аделаида была вынуждена вернуться в 1117 г. на Сицилию. Но юный граф Рожер вовсе не считал свои права на Иерусалимский престол обесцененными и вскоре затеял активную борьбу за спорную корону22.
Допускалось наследование по женской линии и в Испании. Например, такая величественная фигура, как Изабелла Католичка (1474-1504) была объявлена в 1468 г. наследницей Кастильского престола, а в 1474 г. стала королевой Кастилии после смерти своего единокровного брата Энрике IV (1454-1474). Интересно, что порядок наследования престола был определен не древним законом или обычаем, а непосредственно королем Хуаном II (1406-1454) в его завещании23.
В Португалии, после того, как король Санчо II (1223-1247) был лишен власти, новым венценосцем стал Афонсу III (1248-1279), ссылавшийся на династические права своей жены, графини Матильды де Даммартен (1202-1259), королевы-консорт в период с 1248-1253 гг.
V
Но и с преемственностью власти по мужской (сыновней) линии все обстояло не так однозначно, как это иногда кажется. Как известно, наследование является лишь одним из видов преемственности власти24. И даже наследование «по крови», как показывает многовековая практика, вовсе не предполагало в автоматическом режиме передачу власти старшему из сыновей. Правящий монарх обычно останавливал свой выбор на отпрыске, демонстрирующем превосходные личные качества, а также на том, кто рожден «в пурпуре», вовсе игнорируя принцип старшинства25. Более того, история многократно демонстрирует нам картины передачи власти вообще посторонним людям, не связанным с монархом никаким родством. Приведем несколько типичных примеров.
Умирающий герой Византии император Иоанн II Комнин (1122-1143) неожиданно для всех объявил на смертном одре, что передает власть не старшему сыну Исааку, а младшему, Мануилу I (1143-1180). Сравнив для обоснования своего выбора в присутствии армии характеры обоих сыновей, царь подытожил: «Итак, примите этого юношу как царя, и Богом помазанного, и по моему избранию вступающему на престол»26.
После того, как царевич Андроник отказался выкупать своего отца Иоанна V Палеолога (1341-1376; 1379-1391) из венецианского плена, василевс назначил своим преемником другого сына – будущего императора св. Мануила II Палеолога (1391-1425). Оскорбленный старший сын организовал два заговора, второй из которых был удачным, и вскоре короновался под именем Андроника IV Палеолога (1376-1379) вместе со своим сыном Иоанном VII Палеологом (1377-1390). Впоследствии наступило примирение, и Андроник вновь был объявлен наследником престола. Но после его смерти царем стал св. Мануил27.
Император Андроник II Палеолог (1282-1328) задолго до смерти наметил передачу власти внуку Андронику III Младшему (1328-1341), а права на трон сына царя от первого брака – Константина практически не учитывались28.
Василевс мог передать власть не старшему сыну и даже вообще не сыну, а дальнему родственнику или постороннему человеку. Так, например, поступил Исаак I Комнин (1057-1059), назвавший своим преемником не сына, а Константина X Дуку (1059-1067)29.
Царь Феодосий III (715-717) передал императорский венец Льву III Исавру (717-741)30. Хотя и вынужденно, но тем не менее Михаил I Рангаве (811-813) отрекся от трона в пользу совершенно постороннего для себя с точки зрения родства человека – Льва V Армянина (813-820).
Хрестоматийный пример косвенного династического родства явило соправление Андроника I (1083-1085) и юного Алексея II Комнина (1080-1083), когда общество во имя «общего блага» согласилось признать дядю царственного мальчика полноправным императором. Зато Михаил VIII Палеолог (1261-1282), ставший соправителем малолетнего Иоанна IV Ласкариса (1258-1261), был выдвинут по своим личным качествам. Он приходился лишь дальним родственником правящей династии Ласкаридов, каковых в то время насчитывалось немало.
Иоанн VI Кантакузен (1347-1354) вообще не являлся родственником царя Андроника III Палеолога (1328-1341), но по «праву духовного родства» с покойным василевсом он считался вполне легитимным преемником его власти. При условии, конечно, сохранения права на царство юного Иоанна V Палеолога (1341-1391), сына своего царственного друга и покровителя.
Когда императорский трон захватил Никифор III Вотаниат (1078-1081), Алексей I Комнин (1081-1118), посчитав, что нарушены законные права наследника – юного Константина Порфирородного, брата свергнутого царя Михаила VII Дуки Парапинака (1067-1078), предложил Никифору признать Константина соправителем, а по достижении совершеннолетия передать тому единоличную власть31. Согласимся, едва ли возможно усмотреть в этой конструкции наследственное преемство «по крови».
Такие прецеденты имели место, разумеется, не только в Византии. После кончины св. Феодора Иоанновича (1584-1598) легитимация власти одного из претендентов на престол Бориса Годунова (1598-1605) основывалась на нескольких непрямых нюансах, каждый из которых сам по себе мало что значил: родстве с царской семье через сестру Ирину (1598), церковном поминовении по его распоряжению вдовой царицы на Ектенье, как свидетельство заботы о ней (что, напротив, вызвало глухой ропот недовольства в силу беспрецедентности), а также специально подобранных исторических примеров безродности многих великих царей у других народов, и ссылке самого претендента на несуществующую грамоту Иоанна Грозного (1547-1584), который-де незадолго до своей смерти поручил его заботам сына, невестку и царство. Интересно, что грамота об избрании Годунова по инициативе патриарха св. Иова (1586-2589) была вложена в раку с мощами св. Петра (память 24 августа), митрополита Московского, как важный сакральный жест зашиты соборного решения32.
Кратко остановимся на практике государств, не принадлежащих к христианскому вероисповеданию. В частности, по праву Золотой Орды, наследником Великого хана становился его сын или внук по мужской линии. Однако вопрос преемственности крови имел здесь качественно иную основу – небесное покровительство Чингиз-хану (1206-1227), харизму самого Чингиз-хана и его семейства, божественное благоволение по отношению к ним, что выражалось в очевидных для всех военных успехах и мирном строительстве, избрание хана на курултае (народном собрании), и, если речь шла о хане одного из улусов, – утверждение его в должности Великим ханом. После принятия монголами Ислама фраза «благоденствие великого пламени» была естественным образом перефразирована в титулатуре на выражение «Предвечного Бога силой», все остальное осталось, как прежде.
Как следствие, род Чингиз-хана в течение нескольких веков продолжал считаться единственной колыбелью, из которой монголы получали нового Великого хана и ханов улусов. Даже могущественнейшие временщики типа Мамая (1335-1380) или Едигея (1352-1419) не смели заявлять свои права на ханский престол, поскольку не принадлежали к роду Чингиз-хана. Следует отметить, что все потомки Чингиз-хана, равно как и его сыновей в улусах, обладали равными правам на власть. Поэтому признание подданных получали более удачливые и сильные, которые, однако, не спешили объявлять низверженных противников узурпаторами, и решения свернутых правителей продолжали сохранять свою законную силу даже в годы правления их более удачливых преемников33.