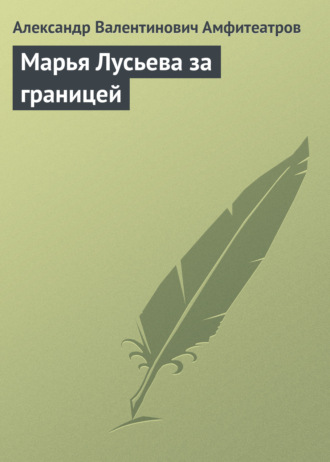
Александр Амфитеатров
Марья Лусьева за границей
– Я больше не могу! Она почала второй литр и – держится на ногах прямо, как монумент короля на площади! Зла, как сатана, и жрет коньяк, как бутылка с дырявым дном. Ее сегодня сам черт не свалит. Кричи карабинеров! Я больше не могу! Эти господа зачем здесь? Тысячу извинений, синьоры, messieurs, meine Herren[119], но сейчас не время, к сожалению, совсем не время… не можем вас принять. Фиорина! скверная тварь! Все это из-за вас всегда! Все эти неприятности – ваши мерзости, ваши шашни! Что же вы, мерзавка этакая, не могли, по крайней мере, убрать этих господ, чтобы они не были свидетелями нашего скандала? Пеппино! Зови карабинеров!
Пеппино выскочил на улицу.
И вместе с тем на повороте лестницы показалась сопровождаемая дюжиною горланящих, хохочущих, улюлюкающих, мужских и женских, старых и молодых рож, качающаяся, гигантская, в истерзанном капоте, полуголая Саломея. Мороз прошел по коже у Вельского, когда почти синяя, апоплексическая маска огромного лица ее остановила прямо на нем зрячие, бессмысленно-свирепые глаза свои. К великому счастью Фиорины, пьяная Саломея узнала русских и сразу приковалась к ним вниманием.
– А! А! – завопила она сипло и дико. – Вот эти молодчики, с которыми Рина удрала сегодня… Теперь мы разузнаем кое-что!
И направилась прямо к русским, размахивая щипцами своими, и тщетно Фузинати плясал и вертелся вокруг нее.
– Саломея! ну, ангел, ну, радость моя! ну, умница, Саломея! будьте же благоразумны! Лучше выпейте… вот… вот еще стаканчик коньяку… Саломея! Я осыплю вас серебром, только будьте благоразумны! Саломея! Ну – хотите, я женюсь на вас? Выпейте еще стаканчик коньяку…
Фиорина, тем временем присев на корточки в темном углу, заслоненная Аличе, которая держала ее за руку с недетскою силою, шептала девочке, трясущаяся, – волосы взбились под съехавшею набок шляпою, и зуб не попадал на зуб:
– Спрячь меня, Аличе… спрячь…
– Ты всегда презирала меня! Ты всегда презирала меня! – твердила ей, злобно оскалив зубы, торжествующая маленькая ведьма.
– Спрячь!.. Я знаю: ты можешь… У тебя есть угол… Я целовала твою руку… спрячь!
– Ага! То-то прекрасная гордая дама! Я говорила, что не век тебе предо мною важничать, что будет на моей улице праздник, когда ты рада будешь сделать все, что я тебе прикажу…
– Я сделаю все, что ты прикажешь, но сейчас спаси меня, спрячь – умоляю тебя… Она никогда еще не бывала так ужасна… Умоляю тебя: спрячь!
– Дай мне слово, что ты не будешь больше дружить с Ольгой, – тогда спрячу…
– Клянусь тебе всем святым, что есть на свете, – пусть я умру, если я буду вперед дружить с Ольгой…
– И ты должна повернуться к ней спиной, если она к тебе подойдет.
– Я повернусь к ней спиной, если она подойдет… Но, Аличе!..
– И твоею подругою, и госпожою будет с нынешнего вечера маленькая Аличе…
– Ты будешь моей подругой…
– И госпожою! госпожою!
– Хорошо… и госпожою… Всем, что ты хочешь, буду я для тебя… но не мучь же меня! спрячь!
А Саломея – чудовищная в разметанных черных космах своих, которые на лбу слились со взъерошенными бровями в палец толщины, с черною сажною полосою усиков над синими губами, напирала на гостей, как соборная башня. Тесемкин юркнул за Вельского. Шофер, тоже повернувший было к дверям, даже страх скандала забыл: так поразило его диковинное привидение полуголой дикарки.
– Che befana![120] – проворчал он, и хотя, как все шоферы, был свободомыслящий, едва не перекрестился.
А «бефана» тем временем успела дать Фузинати такой толчок ногою, что горемыка, задребезжав бутылкою и звеня разбитым стаканом, мячиком покатился в угол, где только что шептались Фиорина и Аличе, но где их уже не было. Взрыв хохота рож на лестнице приветствовал его падение. Хозяин вскочил и, в бешенстве, бросился на рожи с кулаками:
– Вам еще что тут, висельная сволочь? Негодяи! Саломея же, стоя перед русскими, вдруг вспомнила по пьяному наитию, что это гости хорошие и порядочные и ничем пред нею не виноваты, и решила быть с ними любезною. С каминными щипцами под мохнатою мышкою она кивала Вельскому страшным лицом, скалила полувершковые зубищи и, качая безобразно-огромною голою грудью, ворчала умильным рыканием, стараясь вспомнить забытые русские слова:
– Ти русски… мы армэнски… ми любим русски… турска нэт хоруш… русски харуш… пойдем ко мне, душенька!
– Чтобы черт все побрал! – крикнул Тесемкин и бросился в автомобиль, увлекая за собою Вельского.
Страшный рев разъяренной пасти раздался им вслед, и, брошенные могучею рукою, далеко по тротуару звякнули щипцы. Но аппарат уже работал.
– Фу-у! – отдувался москвич, – ну, Матвей Ильич! Век не забуду вашего развлечения! Угостили!
Вельский молчал.
Шофер обернулся к ним и показал на бегущего навстречу по тротуару Пеппино, за которым быстрыми шагами поспевали два плаща и две треуголки:
– Карабинеры.
– Слава Богу! – даже перекрестился Тесемкин, – хоть от этого скандала ноги унесли… А Фиорина-то, ведь тоже удрала-таки куца-то. Вы заметили, Матвей Ильич? Все была – была тут, и вдруг ее не стало… Молодчина! Куца-то уцрала.
– Ну-с, – насилу отдышался Тесемкин у Кова за вермутом с сельтерской водой, – ну-с, могу вам сказать утешились! насладились!.. Ах черт их дери! Да и вы тоже хороши, Матвей Ильич…
– Я-то чем провинился?
– А тем, что – словно вы студент первого семестра, а не действительный статский советник. Лысина во всю голову, а он – изволите видеть: изучает нравы погибших, но милых созданий, меланхолически расспрашивает: «Как дошла ты до жизни такой?» и одну заблудшую овечку даже намеревается спасти и увезти с собою…
– Положим, это ваша фантазия, ничего подобного я не затевал.
– Те-те-те! Милостивый государь! А кто насчет путешествия в Монте-Карло намекал и подманивал?
– Ну, это, мой друг, не столь в целях спасения, сколь пагубы… Согласитесь, что вторую Фиорину между этими госпожами не скоро найдешь.
– Нет, батюшка! Вы меня не надуете: глаза у вас не те. Сентименталист вы – вот что! и авантюру романическую любите!.. Нет-с, у меня просто: заплатил и – чист!..
– Однако мы весь день провели вместе, кажется?
– Да почему же нет, если женщина все время интересные анекдоты рассказывает? Но – чтобы канитель тянуть – дудки! слуга покорный! В конце концов все к лучшему в этом лучшем из миров: хорошо, что скандал пролетел мимо наших голов, но хорошо и то, что он разразился: иначе эта Фиоринка, мой друг, вас завертела бы.
– Это не у меня оказывается романическое воображение, Иван Терентьевич, а у вас.
– Завертела бы, клянусь святым Патриком! Она поняла вас насквозь. Я видел: она уже за обедом начала к вам приглядываться да тону забирать, а в кафе уже такую гранд-даму на себя напустила, что – ой-ой-ой… Я было маленько под столом ногой ее потолкал, – помни, дескать, на всякий случай, что есть еще один смертный, который не прочь пожертвовать на тебя стофранковый билет… так – убрала ногу-то… Э-э-э! это у ихней сестры неспроста, серьезно! Стало быть, обрадовалась случаю, затеяла любовь крутить. А вы и сейчас еще изволите пребывать в меланхолии.
– Я не в меланхолии, а просто чувствую себя трусом и подлецом. Мы с вами, Иван Терентьевич, вели себя не как мужчины, но как старые бабы.
– Гораздо хуже, – спокойно возразил Тесемкин, – и ничуть не стыжусь, потому что за эти два дня я имел удовольствие познакомиться с двумя старыми бабами, которые способны разогнать целый полк.
– Мы прегнусно оставили Фиорину на произвол всех этих негодяев.
– Да – помилуйте! Что же? В самом деле вы что ли дожидаться хотели, чтобы Саломея вас по лысине щипцами кокнула? Вот еще страдатель нашелся! Мазохист особого рода! Не беспокойтесь. Обвертелось как-нибудь. Это нам в непривычку, так жутко показалось, а ей не впервой. Поди, каждый день при подобных сценах-то присутствует. Оставьте! Милые бранятся, только тешатся.
– Надо все-таки будет навести справки, как у них там кончилось, – задумчиво сказал Вельский. – А то у меня сердце не на месте.
Тесемкин даже прибор от себя оттолкнул.
– Ну уж извините! Что меня касается, то ноги моей в переулке там не будет, не только что в трущобе господина Фузинати. Если вам угодно, донкихотствуйте в одиночку, а я, как благоразумный Санчо Панса, прыгаю в ближайший поезд на Вентимилью и addio, Milano![121] Хорошенького понемножку, знаете. Вы посчитайте в бумажнике-то: суток нет, что мы здесь, а сотни по три франков уже вылетело… Удовольствия же только – что старая ведьма едва-едва не наломала из нас дров и щепы… Garèon! Cameriere! Donnez moi, s'il vous plait, – как бишь это у них называется-то, Матвей Ильич? – да! orario!..[122]
Официант подал железнодорожный путеводитель, в который Тесемкин и зарылся.
– Вот – по-ихнему, в 23 часа 25 минут, стало быть, в половине двенадцатого direttissimo…[123] С ним и махнем, нечего прохлажаться-то… Времени – аккурат, чтобы не спеша пообедать и пройтись по галерее… Cameriere! карточку… И уж, пожалуйста, друг мой, не брыкайтесь, послушайте меня: довольно поэтических вольностей, опустимся в достойную нашего возраста и положения прозу.
Обедали долго, распили фиаску кьянти и бутылку asti pumante[124]. Тесемкин хотел уже спросить счет, когда метрдотель таинственно подошел к Вельскому:
– Pardon, monsieur… Дама, которая сегодня у нас завтракала с вами, просит вас выйти к ней на минутку… Она ждет у подъезда в фиакре…
– Начинается! – с досадою и неудовольствием протянул Тесемкин. – Не ходите, Матвей Ильич…
Но Вельский уже поднялся.
– Но, – сказал он метрдотелю, – просите же даму сюда…
– Мы уже предлагали, но она не пожелала…
Метрдотель двусмысленно улыбнулся и добавил:
– Я должен вас предупредить, monsieur, что дама не одна. При ней какая-то странная особа. Даже не разобрать женщина это или ребенок… Во всяком случае, ее туалет…
Он с трагическим ужасом возвел горе очи свои.
– Не таков, чтобы украшать ваш общий зал, – договорил Вельский. – Понимаю. Ну, а в отдельный кабинет? можно?
– Матвей Ильич! – жалобно взвыл Тесемкин.
– Оставьте! – с досадою отмахнулся тот, – должен же я проститься с нею… Alors?[125] – обратился он к метрдотелю.
– У нас, – вкрадчиво извинился тот, – к сожалению, все кабинеты заняты, но рядом имеются прекрасные меблированные комнаты, которые получают от нас кухню и погреб. Когда у нас все переполнено, мы употребляем их, как succursale[126]. Если вам угодно воспользоваться, я сейчас же телефонирую…
– Хорошо, пожалуйста.
– Я не пойду, – надулся Тесемкин. – Опять заведете в какую-нибудь трущобу. Ступайте, если хотите, один. Я лучше кофе с коньяком выпью. И, пожалуйста, не увлекайтесь разговорами. Помните, что мы сегодня уезжаем. А, если будут вас резать, телефонируйте, прибегу спасать.
Сопровождаемый метрдотелем, Вельский вышел на подъезд. Из окна фиакра выглянуло на него освещенное сверху электрическим фонарем бледное лицо Фиорины.
– Пожалуйста, выходите, Фиорина, – заговорил Вельский. – Я так рад вас видеть… Ну что? Обошлась буря? По-видимому, все благополучно…
– Я не одна, – сказала Фиорина дрожащим больным голосом, – и тут Вельский увидал, что над плечом ее кивают и колышатся какие-то высоченные и пренелепые рыжие перья, Фиорина отодвинулась, и под перьями оказалась огромная котлообразная шляпа, а под шляпою – крохотное, с кулачок, желтое личико, с которого блеснули на Вельского сердитые, дикие глазки.
Русский с недоумением поклонился.
– Я не одна и не могу быть одна, – повторила Фиорина с заметным усилием. – Вы не узнаете? Это моя подруга… Аличе…
Вельский с новым изумлением признал в удивительном оперенном существе маленькую привратницу, которая и вчера, и сегодня так люто ругалась с Фиориною на неизвестном ему миланском наречии. Он пригласил и Аличе сделать ему честь своим посещением. Та пренадменно кивнула рыжими своими перьями, оперлась на протянутую руку Вельского своею тощею ручонкою в лайковой перчатке, совсем как костлявая лапка цыпленка, и выскочила из фиакра на тротуар. Вельский взглянул на нее и чуть вслух не ахнул: ни для какого маскарада маленькая дикарка не могла навертеть на себя столько пестрых тряпок и драгоценных цацок, так нелепо закрутить над крутым лбом жесткую черную гриву кудрей, так ухарски заломить шлемоподобную крылатую шляпу, которая, гриб грибом на тоненькой ножке, совсем придавила девочку к земле. Он понял, почему так ехидно улыбался метрдотель, и сам едва не расхохотался, но, под подозрительным взглядом Аличе, успел сдержаться и с серьезным лицом обратился к метрдотелю:
– Покажите же нам вход…
Тот понятливо схватил в вопросе: а нельзя ли, чтобы это чудо морское недолго привлекало к себе внимание публики? – и, с улыбкою под усами, предложил:
– Monsieur, если угодно, может пройти внутренним коридором.
Бельский предложил было Фиорине руку, но Аличе, не скрывая резкого, неприязненного движения, скользнула между ними и повисла на локте молодой женщины, прижимаясь к ней с видом вызывающим, точно ребенок к кукле, которую, она боится, хотят у нее отнять.
Кабинет, который им предложили, оказался комнатою, принадлежавшею когда-то к весьма приличной и даже, пожалуй, довольно шикарной частной квартире, но то было давно, а теперь все потускло, поблекло, потемнело, – выгрязнилось под копотью табачного дыма, вылиняло от сырости вечных ломбардских туманов. Из троих вошедших одна Аличе с удовольствием осмотрелась: в первый раз.
– Ну, рассказывайте же, рассказывайте, Фиорина! – торопил Бельский, когда человек из ресторана ушел, приняв от него заказ на вино и фрукты, – вы не можете представить себе, как я беспокоился за вас…
– Что же за меня беспокоиться? – тяжко вздохнула Фиорина, – я вышла суха из воды…
– Я только на то и надеялся, что в самый разгар урагана вы куда-то исчезли.
– Да, мне посчастливилось, – потупилась Фиорина, – это она меня выручила… спрятала! – кивнула она на маленькую Аличе.
Та, догадавшись, что о ней говорят, гордо выпрямила тщедушную, болезненную фигурку свою.
– А! Это очень благородно со стороны вашей маленькой подруги! – сказал Матвей Ильич, с изумлением замечая: «Почему же это, однако, Фиорина, вдруг, так некстати краснеет?»
Испросил:
– Ну, а больная ваша – что? Эта бешеная? Саломея?
Аличе, услыхав имя Саломеи, захохотала и, помотав рукою около горла, щелкнула пальцами и языком и закатила глаза, будто кого-то повесила или кто-то повесился, а у Фио-рины глаза наполнились слезами:
– Ах, мосье Вельский, с бедною Саломеей очень нехорошо… Ее увезли в госпиталь без чувств и черную, как котел… Мы только что оттуда, но нам не показали ее, а доктор качает головою и говорит, что будет чуцом, если она выживет и опять будет здорова…
– Допилась негодяйка! – крикнула Аличе, стукнув цыплячьей ручонкой своей по столу. – Белая горячка и – апоплексический удар!
И захохотала, торжествуя.
Вельский, схвативший из крика ее одно слово «апоплексия», смотрел на нее с изумлением и отвращением:
– Если дело так плохо, то чему же радуется этот маленький чертенок?
– Ах, они вечно ссорились и ненавидели друг друга! – объяснила Фиорина, покусывая белыми зубами яркие губы свои. – Мне очень тяжело, мосье Вельский… Если бы я не боялась, что вы сегодня уедете…
– Да, Фиорина, мой товарищ настаивает.
– Да, конечно! – неожиданно даже обрадовалась как будто Фиорина, – что вам здесь делать еще? Уезжайте!.. Счастливый путь.
– О? – обиделся слегка Вельский, – я не надеялся, что надоем вам так решительно и скоро…
– Эх! – вырвалось у Фиорины. – Что мы будем хорошие слова друг другу говорить и ласковыми чувствами меняться? Сердечно рада была погреться хоть денек у человеческого тепла, но – хорошо, что уезжаете: довольно! а то набалуешься… Оставьте бедную чертовку ее аду. Вы видели кусочек его… клянусь вам, это еще не самый худший… Удалось вам застать Фиорину хорошею, трезвою, неглупою и, если развратною, то только по ремеслу… Ну и увезите с собою в памяти вашей эту Фиорину. Зачем вам дожидаться, пока Фиорина покажет вам себя в настоящем-то своем свете – пьяною, безумною, шальною дурою, у которой вместо души, ума, чести и совести… сказала бы я вам, что, да все-таки еще помню, что я женщина, а вы мужчина – стыдно, язык не поворачивается…
– Фиори! – недовольным голосом окликнула, ежась плечиками в кресле своем, Аличе.
Фиорина продолжала, не замечая.
– Я предчувствую, господин Вельский, что потеряла Саломею. Это страшное для меня несчастие. Как хотите, пять лет прожили мы душа в душу. Из-за ее кулаков меня никому было не достать. Никогда я не прощу себе, дуре подлой, такого легкомыслия, что довела ее до этого состояния… Теперь вот и расплачивайся за блажные свои глупости. Сама я, в одиночку, робка и бесхарактерна, перед силою и наглостью теряюсь. Чувствую, что опять прогуляла я свои свободные дни и уже плывет на меня рабство. Ах, господин Вельский, без кулаков Саломеи желтенькая ждет меня жизнь. Бивала она меня по временам и больно бивала, да, видно, мало…
– Фиори! – повелительно опять окликнула ее Аличе. Фиорина повернула к ней заплаканные глаза.
– Я слышу… Что тебе Аличе?
– Не Аличе, а Личе. Я твоя Личе, а ты моя Фиори.
– Что тебе, Личе?
– Я не люблю, чтобы при мне говорили на языке, которого я не понимаю.
– Что же мне делать? Господин не знает ни по-милански, ни по-итальянски…
– А я тебе запрещаю говорить так, чтобы я не понимала. И потом: ты ревешь… Очень весело! О чем это – нельзя ли спросить? Уж не хочешь ли ты ему показать, что моя компания слишком низка для тебя и ты несчастна нашею дружбою?
– Я плачу, потому что мне жаль бедную Саломею…
– Есть о чем! Утри, пожалуйста, глаза – и довольно об этом. Мне совсем не приятно слушать, как ты каждую минуту поминаешь эту пьяную дылду… Нашли о ком жалеть! Только, что горды вы обе очень были, а вечно сидели на бобах, и Фузинати, хоть и гнул пред тобою шею, но заставлял тебя работать, как клячу. Поверь, со мною тебе будет лучше. Я делаю с Фузинати все, что хочу. Я его заставлю подметки башмаков твоих целовать.
– А меня – твоих? – горько усмехнулась Фиорина.
Аличе захохотала во все горло:
– Ах ты шутовка! То ревет, то смешит. Тебя – моих… Ха-ха-ха? Что же? разве у меня не хорошенькая ножка?.. Ах, Фиори!
Человек принес шампанское. Аличе, узнав вино, сорвалась с кресла и, хлопая руками, закружилась по комнате, как волчок, прихрамывая на пируэтах:
– Nozze! Nozze! – визжала она. – Ewiva Fiori! Ewiva Lice![127] Фиори! Что же твой русский господин глядит, как удивленный филин? Заставь его выпить за наше здоровье… Черт тебя побери, моя Фиори! Я обожаю тебя, моя чертовка. Если ты вздумаешь обманывать меня, как надувала Саломею, я скандалов тебе делать не стану, но у меня есть такой секрет, что ты в месяц иссохнешь, как ножка вот этого стола…
– Оставь, Личе. Не говори глупостей… Господин может догадаться.
– А мне наплевать!
– Но мне не наплевать.
– А? Так тебе страшно признаться, что я твоя подруга? Ты стыдишься меня?
– Да нет же, Личе!
– Берегись, Фиори!
– Да нет же, нет!..
– Хорошо, я прощаю тебя и верю тебе. Но – берегись, Фиори! Поцелуй мою ручку.
– Ребенок! – с виноватым смущением усмехнулась Фиорина Вельскому, когда тот с новым изумлением смотрел на ее верноподданический поцелуй – уже второй, который он видел в этот вечер. А «ребенок», раскрасневшись от шампанского, держал русского за пуговицу визитки и лепетал ему быструю речь, из которой он не понимал ни единого слова, но, если бы понял, то узнал бы много интересного.
– Фиори глупа, господин. Она не понимает. Она воображает, будто для того, чтобы охранить женщину, надо быть трех аршин ростом и ломать конские подковы. Маленькая Аличе ростом с наперсток, у нее припадки, у нее одно плечо выше другого, а силы не больше, чем у комара, но пред нею вытягиваются, как солдаты, самые наглые тепписты (апаши). Потому что у маленькой Аличе есть характер. Вы видали Мафальду Помилуй мя, Господи, синьор? Эта женщина, когда голая, блох ищет, так и тут пошарьте ее – у нее нож спрятан под грудями. А я дважды била ее по морде, да, по морде, как собаку. И она выла, как собака, и просила у меня прощенья, и с тех пор, когда она видит меня, у нее рожа, как будто маслом вымазана и в глазах мед: «Piccola padrona! piccola padrona!»[128] – передразнила она.
– Ну, послушай, ты, дура! – обратилась она к Фиорине, – подумай сама: когда это бывало, при твоей Саломее, чтобы ты вот так смела уйти из дома, не сказавшись Фузинати, как мы с тобою сейчас? Ты видела: я добрая. Тебе хотелось в госпиталь, мы были в госпитале. Тебе хотелось проститься с русским синьором, вот мы сидим и пьем вино с русским синьором. Разве могла Саломея доставить тебе столько удовольствия? Мы будем жить с тобой в двух лучших комнатах мышеловки, и ты будешь носить все платья, какие захочешь, по тем же ценам, как какая-нибудь Мафальда платит за свое рубище. Слушайся своей маленькой Личе, Фиори, я сделаю тебя богатою… А Фузинати не бойся. Вы ей скажите, синьор, что ей решительно нечего бояться старого подлеца Фузинати. Фузинати – моя собака. Он старый развратник, и я одна знаю, что ему надо, и я одна умею ему угодить. Если он посмеет сделать нам скверную гримасу, я запрусь на сутки в своей комнате, и он будет выть у дверей. И, кроме того, он думает, что я – маленькая колдунья, потому что в наших местах, под Люино, коддуний столько же, сколько старух и горбатых девчонок. И я приношу ему счастье. Посмел бы он поднять руку на свое счастье! И, кроме того, он боится, что я его отравлю. Всякий раз, как у него болит живот, он плачет и думает, что я уже его отравила. И просит прощения. Тоща я делаю ему пойло из olio с серою и всякою дрянью. И он пьет, и ему скверно, и он ревет, как осел, но живот перестает болеть, и старый дурак уверен, что я его спасла от смерти.
Она долго болтала, покуда вино не заставило ее дремать. Тогда она стала жаловаться, что ей холодно, и приказала Фиорине взять ее на колени, как ребенка, и так заснула у той на груди.
– Дело мое скверно, господин Вельский, – сказала Фиорина, когда убедилась, что девчонка действительно спит. – Фузинати и эта маленькая злая пиявка вдвоем выпьют мою кровь.
– Если бы я мог помочь вам вырваться…
– О, господин Вельский! совершенно напрасная мечта. Во-первых, это дорогая затея…
– Авось я, на ваше счастье, выиграю в Монте-Карло.
– Тогда я предпочту, чтобы вы опять, проездом через Милан, позвали меня прокутить вместе с вами мою долю… А вырваться? нет! на что я годна? Сегодня уйду, через неделю вернусь назад. И вечно будет пить из меня кровь какой-нибудь Фузинати, и вечно будет «защищать» меня, то есть командовать мною какая-нибудь Саломея или Аличе… Четырнадцатый год, как я в этой жизни, господин Вельский! В ней у меня вся кровь переродилась… Поздно! Тело из таких привычек сложилось, над которыми воля не властна. Как запой. Буду презирать себя, но жизнь мне эту подай, не могу быть в другой. Нужны мне и Кампари, где я королевою ломаюсь, покуда мужчин ловлю, и Фузинати, который меня в кулаке держит, и Саломея с ее грубыми кулаками и нежным сердцем, и пьяная злобная развратница Мафальда, и эта Ольга, за которую мы перессорились точно мужчины, и вот эта Аличе, которая командует сейчас мною, точно мне пятнадцать лет, а ей мои тридцать три… Это все – как водка запойному пьянице: противна, а не пить нельзя – без нее свет не мил… Разве старость и дряхлость меня отсюда вырвет – в госпиталь да в могилу. А то я себя знаю. Возьмите меня с собою и вы увидите: Фузинати, Саломея, Ольга, Мафальда, Аличе поедут за мною. Не эти, другие, но – не все ли равно? Неделю спустя, вы застанете меня в шашнях с вашим приятелем, с вашим камердинером, с встречною извращенною англичанкою, с служанкою из отеля… А затем – в один скверный день вы вовсе не найдете меня дома, – и ищите меня, вольную птицу, по всем maisons de passe![129] Найдете, – не обрадуетесь: буду пьяная, буду гнусная, насмешливая, жадная, злая, с сквернейшими мыслями в голове, с гнуснейшими словами на языке и без всякого стыда во всем теле…
– Не говори на языке, которого я не понимаю, Фиори! – проворчала сквозь сон Аличе.
В двери постучали. Тесемкин из ресторана прислал напомнить, что он просит господина Вельского вспомнить о поезде, их ждущем через час.
– Скверное мое дело, – повторила Фиорина. – Эта девчонка целый год подстерегала меня, чтобы забрать в свои лапки, и вот теперь добилась своего. С нею дешево не расстанешься.
– Дайте ей пинка и – к черту!
– Чтобы у меня завтра лицо было сожжено серною кислотою? Чтобы она подстерегла меня с бритвою в темноте и устроила мне такое sfregio, какого и в Сицилии не видано? Вы посмотрите на этого маленького демона. Я понимаю, что сам Фузинати боится ее. Что она колдунья, это его суеверный вздор. Но – что они там у себя, в горных деревнях, травят друг дружку, как летних мух, по любой ссоре, мышьяком и аконитом, – это святая правда. Вот она спит, а я ее уже боюсь. И колени она мне оттянула, и вас товарищ ждет, а я робею разбудить… Личе! а! Личе!
А Личе открыла глаза сонная, усталая, злая, но стакан шампанского освежил ее, и она, хотя хмурая, стала довольно бодро одевать перед зеркалом свою удивительную шляпу.
– Фиори! – крикнула она. – Поди сюда!
– Что, Личе?
Девочка зашептала что-то. Фиори покраснела.
– Но, Личе… какие глупости… Да и за что?
– За то, что он синьор, а мы бедные девки…
– Я, право, не смею, Личе! Это просто бессовестно… – Фиори!
– В чем дело, Фиорина? – вмешался Вельский, чувствуя, что дело касается его.
– Личе находит… – произнесла, запинаясь, пунцовая Фиорина, – Личе просит… Личе находит, что вы… нет, я просто не могу…
– Фиори!
– Ах, Боже мой! Ну, скажу… Личе находит, что вы могли бы на прощанье подарить мне… немного денег…
Матвей Ильич посмотрел на ее сконфуженное лицо и, не выразив ничего своим красивым лицом, добыл из бумажника два стофранковые билета и подал их Фиорине… Та медлила взять, но Аличе подскочила, как кот на мышь, схватила деньги и спрятала их за корсаж.
– У нас с Фиори теперь все общее, – объяснила она, – ты не умеешь обращаться с деньгами, Фиори. Теперь я буду беречь твои деньги…
Простились печально и холодно…
Не в духе прибыл Вельский на вокзал, не в духе встретил его Тесемкин, начинавший искренно опасаться, чтобы друг его не застрял в объятиях Цирцеи своей и помчал их пыхтящий поезд ночной, сквозь холодный ломбардский туман к веселым горам и светлому берегу синей Ривьеры.
Угрюмая, с мокрыми глазами, ехала в фиакре домой Фиорина, а Личе, привалившись к ней, лепетала:
– Ты будешь хорошо работать, а я буду беречь, пока мы не станем богаты, и тогда мы сделаемся хозяйками, как Фузинати. Мне не надо работать, потому что у меня есть Фузинати, который – проклятый скряга! – богат, как черт, и у него много прекраснейших вещей. Я знаю все: какие у него вещи и где лежат. Он дарит мне кое-что и позволяет надевать драгоценности, которые вы, женщины, ему закладываете, и они пропадают в залоге. Я у него могу выпросить много-много. И, покуда я для тебя буду подругой и госпожой, все, что у меня будет, то и у тебя будет. Но если ты вздумаешь водиться с Ольгою Блондинкою или променять меня на другую какую-нибудь подобную же дрянь, то – помни, Фиори: у меня есть порошок, который вывернет твои внутренности… Не смей реветь и капать на меня слезами! иначе я исщиплю тебе груди!.. А Фузинати не бойся. Фузинати надоел мне, как маятник. Когда я повытяну из него сок, Фузинати можно и к черту пустить. Видишь ли, тут только, чтобы успеть вещи повытаскать да припрятать, а то – есть такой порошок…







