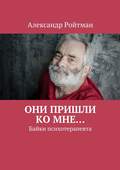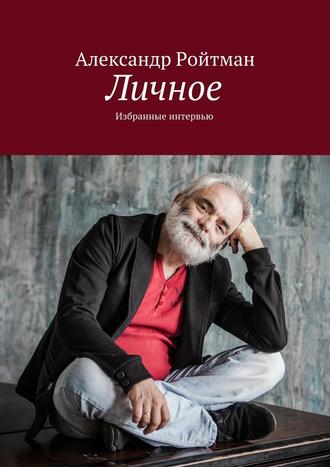
Александр Ройтман
Личное. Избранные интервью
Это как?
Если на группу приходят за тысячу долларов, то этой поддержки вполне достаточно. Человек заплатил тысячу долларов, и уйти отсюда и оставить тысячу долларов этому козлу (мне) будет глупо. Вот тебе и поддержка. Поэтому моя задача – создать достаточно сильное напряжение, «плеснуть соляры на пол», чтобы начались танцы.
Я считаю, что кризис не может разрешиться поддержкой. Это просто невозможно. Иначе мы пройдем мимо кризиса, не прожив его. Человек должен пройти через трансформацию, а трансформация не может пройти без боли, без отказа от старого, без расставания с привычным, без принятия невозможного, без смирения с недопустимым… Душевная внутренняя работа в начале всегда проходит через боль – умственную, душевную, физическую. И попытаться сказать о том, что можно без боли – это обман.
У меня есть такой психотерапевтический слоган: «Больно. Дорого. Без гарантий». И я считаю, что это очень честно. Все остальное – вранье. Настоящая психотерапия без боли не бывает. С болью ты приходишь, и твоя боль носит хронический характер. Для того, чтобы с этим можно было работать, все должно перейти в острую форму. Это работа про боль, я бы даже сказал, про страдание, ведь когда речь идет о душевной боли – это страдание. Ну как можно сказать: «Больно не будет, не ссы»? Сказать-то можно, но это будет неправда.
А как ты относишься к работе с клиентами, которые принимают антидепрессанты? Ведь это и есть попытка пригасить боль…
Есть доля истины в известной пословице: «Счастье – это хорошо подобранный антидепрессант». Другой вопрос, что счастье может быть неполным, поэтому имеет смысл все-таки позвать психотерапевта, чтобы в какой-то момент закончить роман с антидепрессантами. А потом можно и с психотерапевтом закончить. Бывают случаи, когда я настоятельно рекомендую работать «под прикрытием». Не вижу ужаса в обезболивании самом по себе. Я вижу ужас в том, когда говорят, что боли не будет. Потому что это не может быть не больно. И конечно антидепрессант – это один из вариантов. Если он корректно используется, если работа кооперативна: в команде работает психиатр, социальный работник, педагог, – то это правильно…

Александр Ройтман, психотерапевт
Теперь расскажу про дорого. Не может быть не дорого! Психотерапия ведет к трансформации, а трансформация – это конфликт, в первую очередь, конфликт социума: твое ближайшее окружение переживает боль, когда ты меняешься. Это и твоя боль – ты меняешься, привыкаешь к новому, отказываешься от старого. И этому есть цена: от времени и до каких-то потерь, например, потерь людей. И деньги являются очень хорошим конвертором этой ценности. Моя задача – задрать цену, создать суперценность. От цены меняется качество, скорость изменений, скорость психотерапевтического процесса. Чем выше мне удается задрать цену, тем более вероятны чудеса. То есть если удается создать сверх ценность психотерапии, то можно не сомневаться в излечении неизлечимого.
Поясню, о чем идет речь. Когда-то в глубокой молодости у меня были две суицидальные попытки, последствием которых стало заболевание. Оно уже 30 лет со мной и никуда не девается – ожог пищевода. Я с ним много где работал, и в какой-то момент, когда я приехал в Израиль, мне сказали: «Сходи вылечи, это заболевание серьезное, чревато онкологией. Зачем тебе страдать?». И когда я вплотную подошел к лечению, вдруг выяснилось, что для меня эта болячка является огромной ценностью. Например, она следит за моим весом: я такой худенький и стройненький, потому что ничего лишнего не могу съесть. И зря я всю жизнь волновался, что буду жирным боровом. А если я поволновался, понервничал, недоспал, то я могу 2 недели ничего не есть и не пить. В такие моменты я сразу становлюсь несчастным. И моя жена, Машка, если ругается со мной и видит, что я в сторону туалета нацелился… Все! Она перестает ругаться, ей меня жалко. Вобщем, куча позитивных сторон оказалось у этого симптома. И я подумал, что я не готов вот так взять и сдаться этим поганым хирургам. Конечно, в итоге я пошел лечиться – деваться было некуда. Но они меня до конца не вылечили, поэтому все хорошо (вместе улыбаемся).
Я когда-то читал несколько статей про человека, которому ампутировали руку, и после ампутации он очень переживал, когда узнал, что рука была выброшена в мусорку. Вот так же и я понимал, что мое заболевание – это 30 лет моей жизни, 30 лет моей боли, моя история, мой менталитет, мое самосознание. Если бы я и решился отдать эту ценность кому-то, если бы я все-таки расстался с этим, то я бы отдал это в руки человека, который воспримет это как ценность. Я не готов взять и «выбросить свою руку в мусорку».
Еще, к вопросу о ценности, расскажу историю про мою клиентку – девочку, которой сделали пластическую операцию на нос. У нее был длинный нос, а стал обычный. И она потеряла себя. Она стала красивой, но перестала быть собой. И она с этим реально работала, мучилась и страдала. У нее были дети, муж, но она была совершенно потеряна, и у нее ушло много сил на восстановление контакта с собой. В психотерапии очень важно эту ценность создать. Клиент кладет на стол психотерапии ценность, сравнимую с той, которая лежит за его симптомом. Клиенту нужно продать симптом, и продать дорого. И чем дороже его симптом, тем дороже нужно продать. Чудеса возможны в зоне суперценности. Я не говорю, что можно лечить рак психотерапией, но известны случаи, когда действительно происходят чудеса. И я думаю, что они происходят там, где на столе лежат ценности, сравнимые с жизнью и смертью.
Да, я считаю, что психотерапия – это дорого. Настоящее выздоровление – это дорого. Потому что иначе ты «не отдашь».
Теперь про гарантии. Ну, блин, какие тут гарантии?! Тот психотерапевт, который дает тебе гарантии, врет. Он тупо, бездарно, дешево врет. Нет никаких гарантий. И за это подписываться кажется смешным. Когда ты говоришь с клиентом, не стоит врать, не стоит давать лишнюю надежду. Вообще не надо чтоб было слишком много надежды…
Гарантии – это ведь еще и про ответственность? Про ответственность клиента и психотерапевта…
Конечно. Важно понимать, кто за что отвечает. Клиент отвечает за то, что делает он, за то, что с ним происходит. Терапевт отвечает за то, что делает он, и за то, что происходит с ним… Я (как психотерапевт) не отвечаю за изменения клиента… Услышит ли, воспримет ли, встроит ли в свою жизнь и что он с этим сделает… Я могу стучать по столу, швырять в него предметы. Но уклонился он от предмета или принял его в корпус – это сфера его ответственности. И чем раньше он это понимает, тем раньше начинается то, что мы называем психотерапией.
Текст: [битая ссылка] Мира Конина
Интервью для фестиваля «Пространство Смысла»
– (И. Окунева) Обычно я первый вопрос задаю человеку про его профессиональное самоопределение. Как вы себя называете, когда вы говорите о себе как о профессионале? Психолог?
– Сложный вопрос. Наверное если не думать, то да, говорю, что работаю психологом.
– Без дальнейшей расшифровки?
– Я даже могу слинять в термин «people helper».
– Я такого даже не слышала.
– А это слово, которым вообще тебя не поймаешь. Это типа профессиональный помощник человеку, на каком-то этапе его жизни. От пожарника до священника. Но вообще, если все не очень плохо и меня не прижали к стенке, то «психолог» меня устраивает, я бы даже сказал «маргинальный психолог».
– В чем маргинальность?
– Маргинальность в том, что я очень свободно отношусь к большинству жестких рамок, я позволяю себе пробовать, позволяю себе отходить. Позволяю себе не принадлежать ни к какой конфессии. И я с большим уважением отношусь чему-то базовому психологическому, к некой фундаментальной этике, но при этом позволяю себе много работать на границах.
– На границах методов?
– На границах принятых норм. Мне очень нравится название для моего подхода и моего почерка – провокативная групповая терапия. Моих коллег часто спрашивают, что нового ты придумал? Я бы сказал, что я как раз из тех, кто нового ничего не придумывал, который как раз занудный консерватор. Я работаю так, как было принято работать 40—50 лет назад. То, как сегодня вообще не принято работать, то, что сегодня не в «тренде». Я как раз очень тяготею к той психологии, которая была на заре «клиентцентрированной терапии». Перлз, Вирджиния Сатир, Эриксон – самое начало, 50—60ые годы. Я очень не люблю такое понятие как «толерантность». Не верю в него, и я не толерантный психолог. Наверное, вот здесь находятся корни моей маргинальности.
– Как вы снимаете с себя многочисленные проекции на «отца родного»?
– Дедушку Фрейда?
– Нет, не обязательно Фрейда. Просто проекции «хорошего отца» – сильной, справедливой фигуры, знающей, что делать.
– Есть у меня внешний слоган и внутренние принципы работы. Внешний слоган «Больно, дорого, без гарантии». Внутренние принципы – «психолог должен быть туп, ленив и аморален». Я за это свято стою. Что касается слогана, то я убежден, что это – единственная правда, которую может сказать психолог своему клиенту. «Больно» – потому что я за честную позицию и не признаю толерантность. Например, не может быть женщина равна мужчине. Это и смешно и нечестно. Это противоестественно. Я считаю, что гомосексуальная семья не может быть равна семье гетеросексуальной. Она иная, она особенная. Она имеет право на существование, но она не может являться мейнстримом. Не потому что она хорошая или плохая, а просто потому, что к ней надо относиться как к чему-то иному. Попытка сказать, что женщина равна мужчине, что она должна быть похожей на мужчину – это странно. Женщина другая. У нее другой гормональный фон и ритмы иные.
– Я думала, вы про другую маргинальность. Когда человек говорит, мол, «я пошел вскрывать себе вены», и вы – «окей».
– Я не говорю окей. Меня это приводит в ужас. Я буду очень обеспокоен, если мне человек это скажет. Но я не понимаю, зачем тогда человек мне позвонил? Что он ждет от меня в этой ситуации? Если в этот момент человек положит трубку – это будет для меня шоком. Но если не положит – мы начнем разговаривать. Я не буду говорить ему, что я считаю самоубийство глупостью, бессмысленностью и грехом. Я так не считаю, потому что я сам дважды пытался покончить жизнь самоубийством. Отношусь с уважением к этой позиции. Но я не понимаю, зачем тогда мне звонить в этой ситуации? Если ты мне звонишь, значит ты меня втягиваешь в этот разговор, тогда давай разговаривать. И я буду разговаривать.

– Как вы прошли свой путь? Как вы стали психологом? И, как написано у вас в фейсбуке, публичной персоной?
– Публичной персоной я стал тогда, когда надо было кормить семью в 6 человек, а значит зарабатывать больше, а значит продаваться чаще. Встала задача продвижения. Надо работать, надо тратить определенное количество сил на свое продвижение. Значит, ты в фейсбуке каждый день выставляешь 4 текста. Если ты хочешь за полтора года выстроить 20000 человек в фейсбуке, то значит, ты тупо в него вкладываешься. Когда ты такое количество материала генерируешь, то у тебя образуется 20000 человек в фейсбуке, и ты – публичная персона. Это не то чем я являюсь, это то, что мне необходимо, чтобы иметь то, что я хочу. А я хочу, чтобы мои дети поехали летом на корабле. Одному из них 13 лет исполнилось, а другому исполнится. Я хочу, чтобы они могли поехать на корабле в Норвегию. На парусном корабле.
– Как в КВНовской пародии на Безрукова: «Я работаю за идею. А идея у меня – купить остров».
– Какая у меня идея? Да, я работаю за идею, а идея у меня – семья. Я хочу чтобы моя семья была счастливая, довольная, избалованная, жирная. Самодовольная. Мой смысл в семье. Я люблю свою работу, но смысл ей придает моя семья и семейная жизнь.
– А как вас занесло в психотерапию? Выбор детства?
– Наверное, да, рано. У нас был друг семьи, врач-хирург. Очень широкого спектра человек. Глядя на него, я понял, что хочу быть врачом. Каким врачом? Помню начитался «Ночь нежна» и иже с ним, психиатрия, психология. Да, это меня уже тогда интересовало. Хирургия еще. И я не поступил в институт троекратно, ушел в армию. Я думаю, что я тогда просто был не готов поступить в мединститут. И ушел в армию, отслужил 2 года в Хабаровске. И когда я пришел, у меня не хватило смелости поступать в мединститут, и я поступил в университет на биохимфак.
– Это где?
– В Белгороде. Еще я ходил на рукопашку, и там меня очень вставила идея аутотренингов. Мы с моим другом занялись этим самым серьезным образом. Мы ходили в библиотеку раза 3 в неделю, выбирали всю литературу издательств «Прогресс», «Мир», «Медицина», и читали все, что касается гипноза, аутогенных тренировок, самовнушения и так далее. А по субботам собирались, и со всем этим экспериментировали. Многое не получилось, но мы год серьезно этим занимались. Потом ушел в армию. В армии было не до того. Потом пришел и поступил в университет. Однажды на «картошке» я попробовал применить гипноз, в порядке развлечения, и у меня получилось. Последующие пять лет я постоянно кого-нибудь гипнотизировал, практически «всё, что движется» – на вечеринках, для курсовых работ, на лекциях в подшефной школе, в студенческом научном обществе – везде, где можно. Возможно, это тоже определило мою профессию. Потом год проработал директором школы и поступил в Ленинградский университет, закончил его по специальности «психология». Недавно закончил институт имени Бехтерева по клинической психологии. В итоге, лет 10—14 я отдал разным видам гипноза, а потом прошел у Саши Кочаряна в Харькове два марафона. Я понял, что это мое. Мне очень нравится эта правильность и естественность более зрелой групповой психотерапии. И я туда ушел, и больше никогда практически к гипнозу не прикасаюсь. Я пережил, прожил его, отдал ему много лет, отношусь к нему с глубоким уважением, но в какой-то момент я понял, что мое – здесь, и мне тут хорошо.